
 |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
http://www.apn-spb.ru/publications/article15380.htm
Воскресенье, 5 января 2014 2013-12-26  Фын Си - по-китайски "Западный ветер" - один из псевдонимов Иосифа Сталина, который он использовал в переписке с китайскими коммунистами. О роли Сталина в становлении Мао Цзэдуна как политика, их отношениях во время гражданской войны и начала строительства Нового Китая повествует историк Алексей Волынец в цикле статей, приуроченных к 120-летию Великого Кормчего. В декабре 1920 года бывший крупный чиновник Абрам Ходоров передал 20 тысяч серебряных долларов преподавателю Пекинского университета Сергею Полевому. В современных ценах эта сумма тянет примерно на миллион долларов. Ходоров был не только деятелем разогнанного большевиками временного правительства, но и одним из лидеров меньшевиков в РСДРП. В 1917 году он был едва ли не самым убежденным противником фракции Ленина, но с 1919 года, насмотревшись на действия Колчака и интервентов в Сибири и Дальнем Востоке, пришел к выводу, что большевики являются единственной разумной альтернативой для России в пост-революционных условиях. Бежавший от Колчака в Китай Ходоров с 1919 года был здесь по сути неформальным представителем советского Наркомата иностранных дел и советской политической разведки. Получивший 20 тысяч тех полновесных долларов Сергей Александрович Полевой был профессиональным востоковедом – знал китайский, маньчжурский, монгольский, корейский и японский языки. В главном университете Китая Полевой преподавал русский язык и литературу. Но кроме всего прочего Полевой был кадровым офицером ещё царской русской военной разведки, главной задачей которого была работа с территории Китая против Японии (надо отметить, что после поражения 1905 года русские военные предприняли немало усилий по подготовке кадров против этого главного вероятного противника России на Дальнем Востоке). Наблюдая, как белые дружно ложатся под японцев, Полевой пошёл на сотрудничество с большевиками, которых – вполне справедливо – посчитал единственной силой, способной тогда восстановить единство России вообще и на Дальнем Востоке в частности. Переданные через Ходорова 20 тысяч долларов (весьма крупная по тем временам сумма, на неё с учетом местных расценок можно было нанять на год целый полк китайской армии) Полевой потратил на создание и организационно-пропагандистскую деятельность первых коммунистических кружков в китайских университетах на протяжении 1920-21 годов. Профинансированный советскими спецслужбами разведчик еще царского Генерального штаба Полевой тогда работал с будущим первым лидером Компартии Китая Ли Дачжао. Профессор Ли заведовал библиотекой Пекинского университета и как раз нанял на подсобную работу в библиотеке 27-летнего «вечного студента» Мао Цзэдуна, того самого. Начало целенаправленной советской политики в Китае можно отсчитывать от так называемой «ноты Карахана» (август 1919 года), когда заместитель наркоминдела РСФСР Л.М.Карахан декларировал отказ Советской России от прежней империалистической политики, безвозмездный отказ от экстерриториальных концессий и иных полуколониальных привилегий, которые имели на территории Китая «великие державы». Впрочем, наиболее радикальные «интернациональные» положения данной ноты, а именно - безвозмездный отказ от российских прав на КВЖД, были достаточно быстро скорректированы в пользу политики, куда больше учитывающей политические и экономические интересы вновь созданного советского государства. Эту тенденцию в середине 20-х гг. недвусмысленно и ёмко выразил Л.Д.Троцкий, высказав, что именно интернациональные убеждения не позволяют ему требовать от русских рабочих безвозмездно подарить созданную ими КВЖД китайским крестьянам. Собственно, советско-китайские дипломатические отношения оживились после окончания Гражданской войны, когда РСФСР и «буферная» ДВР, играя на противоречиях США, Японии и Китая добились ухода иностранных интервентов (в т.ч. и китайских) с территории российского Дальнего Востока. Антиимпериалистическая политика СССР вызвала в полуколониальном Китае, униженном «великими державами», достаточно заметную симпатию. А прежнюю империалистическую экспансию сменила куда более динамичная экспансия идеологическая – в полуфеодальном, нищем Китае левые и марксистские идеи, особенно в их радикальном «русском» выражении, нашли достаточно много искренних сторонников. Как писал позднее Мао Цзэдун о своих политических исканиях молодости: «Идти по пути русских – таков был вывод». Деньги Коминтерна – большие для отдельного человека, но весьма скромные в международных масштабах – упали на благодатную почву и были израсходованы очень эффективно. Уже в 1921 году при прямой идеологической и организационной поддержке Коминтерна на базе отдельных марксистских кружков была основана Коммунистическая партия Китая. Одновременно советское правительство поддержало «китайских народников» - партию Гоминьдан известного революционера Сунь-Ятсена, начав военную, экономическую и организационную помощь его правительству на Юге Китая в Кантоне (Гуанчжоу). В середине 20-х годов при самом активном участии советских военных специалистов была создана Народно-Революционная Армия, совершившая в 1926-27 гг. победоносный «Северный поход», спланированный Василием Блюхером. Впрочем, главком НРА Чан Кайши (Цзян Чжунчжэн), ставший в результате данного похода номинальным объединителем Китая, достаточно быстро вступил в вооружённую конфронтацию с китайскими коммунистами. Наньчанское восстание 1 августа 1927 г. коммунистических войсковых частей против Чан Кайши также было начато при участии советских представителей и привело к более чем 20-летней гражданской войне между Гоминьданом и Гунчанданом (КПК, Компартией Китая). Таким образом, можно констатировать, что СССР (через НКИД, Коминтерн и Разведупр РККА) стоял у истоков становления двух основных политических сил Китая, сыгравших основную роль в китайской истории ХХ века и до сих пор обладающих государственной властью на Тайване (Гоминьдан) и в континентальном Китае (КПК). В середине 20-х годов ХХ века Китай некоторое время рассматривался в СССР как один из основных «локомотивов» скорой мировой революции. В 1925 г. в Москве было создано уникальное учебное заведение, ранее не имевшее аналогов в мировой политике, - Коммунистический университет трудящихся Китая (КУТК) имени Сунь Ятсена, готовивший, выражаясь современным языком, менеджеров, пиарщиков и полевых командиров для китайской революции. В стенах этого учреждения прошли обучение многие будущие лидеры Китая и немало детей тогдашней китайской элиты, ориентировавшейся в 20-е гг. на СССР. С конца 1927 г. СССР поддерживал китайских коммунистов, ведущих повстанческую борьбу против Чан Кайши и иных китайских милитаристов. В ходе данной войны была создана Китайская Красная Армия (будущая НОАК) и т.н. «советские районы Китая». Именно в ходе этой войны выдвинулся и был замечен Сталиным будущий лидер КПК и КНР Мао Цзэдун. Лидеры СССР и будущей КНР, они же лидеры ВКП(б) и КПК, до декабря 1949 г. никогда лично не встречались, но были весьма неплохо заочно осведомлены друг о друге на протяжении четверти века. Сталин, ещё будучи наркомом по делам национальностей, с начала 20-х гг. занимался советской политикой в Китае, а с середины 20-х гг. уже стал одним из основных создателей этой политики. Мао Цзэдуна заметили в Москве после публикации в коминтерновском журнале «Революционный восток» («Журнал научно-исследовательской организации при Коммунистическом университете трудящихся Востока им. И. В. Сталина») №2 за 1927 г., где было опубликовано объёмное исследование будущего лидера КПК над названием «Крестьянское движение в Хунани». Мао в середине 20-х гг. занимался в КПК именно крестьянским вопросом. Китай был страной еще более крестьянской и аграрной, чем Россия начала ХХ века; и для советских марксистов именно в Китае возникала масса практических и теоретических проблем, на которые не давало ответа европоцентричное наследие Маркса. Поэтому склонный к философским обобщениям практик китайского крестьянского вопроса был отмечен в Москве как перспективный теоретик и пропагандист КПК. Но Сталин окончательно выделил Мао из общей массы лидеров КитКомпартии в конце 20-х гг., когда философ и теоретик, после устроенной гоминьдановцами жестокой резни коммунистов и ряда провальных коммунистических восстаний, оказался умелым и удачливым партизанским командиром. Среди русских и китайских коммунистов 20-30-х годов было немало талантливых теоретиков и пропагандистов, еще больше было решительных и умелых полевых командиров. Но вот людей, счастливо совмещавших в себе обе таких диаметральных ипостаси, даже среди этой незаурядной плеяды было немного. Сталин, сам способный организовать ограбление банка и написать философскую работу, хорошо понимал, что именно такой человек имеет все шансы сталь лидером и среди пропагандистов-теоретиков и среди полевых командиров-атаманов. Что в итоге и произошло с Мао в течении ряда лет (естественно, не без упорной и жестокой борьбы за лидерство). Поэтому Сталин в начале 30-х годов внимательно наблюдал за продвижением Мао и его участием во внутрипартийной борьбе в КПК (которая порой была не менее жестокой, чем война коммунистов с армией и спецслужбами Гоминьдана). Сталин достаточно последовательно охлаждал все попытки обучавшихся в СССР лидеров КПК «съесть» этого никогда не покидавшего Китая партизанского командира. Кстати, это постоянное присутствие Мао в Китае, среди борющихся масс, также выгодно отличало его в глазах Сталина (самого куда больше пребывавшего в тюрьме и ссылке, чем в эмиграции) от иных лидеров КПК, зачастую дольше живших на коминтерновских объектах в Москве, чем в горах и лесах Китая. Надо отметить, что Сталин, опираясь на аналогичный опыт ВКП(б), достаточно философски воспринимал внутреннюю борьбу и политические ошибки в КПК: «Было бы смешно думать, что китайская компартия может стать настоящей большевистской партией, так сказать в один присест, на основании директив Коминтерна. Стоит только вспомнить историю нашей партии, прошедшей через ряд расколов, отколов, измен, предательств и т.д., чтобы понять, что настоящие большевистские партии не рождаются в один присест». С начала 30-х годов политика СССР в Китае всё больше определяется растущей угрозой японской экспансии. Особенно после оккупации Японией территории Маньчжурии внутренняя политика Китая рассматривается в Москве уже не с точки зрения немедленной «мировой революции», а с точки зрения безопасности границ и интересов СССР на Дальнем Востоке. Именно поэтому СССР и Сталин в буквальном смысле этого слова спасают жизнь основному врагу китайских коммунистов Чан Кайши во время т.н. «сианьского инцидента», когда в декабре 1936 г. этот ведущий лидер Китая был арестован рядом антияпонски настроенных китайских генералов, вошедших в союз с КПК. Через Коминтерн китайской Компартии и лично товарищу Мао директивно навязывается идея освобождения Чан Кайши и заключения с ним антияпонского союза – т.н. политика «Единого антияпонского фронта». Данное решение Сталина представляется абсолютно обоснованным с точки зрения безопасности СССР – смерть Чан Кайши, бывшего пусть во многом номинальным, но тогда единственным бесспорным общекитайским лидером, скорее всего привела бы к очередному витку разнообразных гражданских войн и еще большему распаду Китая, что в тот момент было выгодно исключительно Японской империи, активизировавшей свою экспансию в континентальном Китае. Ни СССР, ни тем более китайские коммунисты или отдельные китайские генералы не смогли бы тогда успешно противостоять полномасштабной японской аннексии Китая. А полностью подчинившая Китай Японская империя стала бы смертельной опасностью для советского Дальнего Востока. В то же время, по оценке Сталина, китайский-«великоханьский» националист Чан Кайши, при всём своём антикоммунизме и манёврах в отношении японской политики, меньше всего стремился подчиниться Японии и подчинить ей Китай, бесспорным патриотом которого он являлся (будучи при этом ещё большим «патриотом» собственного властолюбия). Результатом данной советской политики стало сохранение в Китае власти Чан Кайши, который в итоге общего хода событий вынужден был вступить в полномасштабную войну с Японией. При этом во время японо-китайской войны, СССР с 1937 по 1941 годы оказал Китаю беспрецедентную военную и техническую помощь. 21 августа 1937 г. СССР и Китайская Республика подписали Договор о ненападении. В официальной переписке высшие лидеры СССР и Китая порой именовали друг друга соответственно «товарищ Сталин» и «товарищ Чан Кайши». В Китай в самый критический момент японского наступления в значительных объемах поставлялось советское вооружение, боеприпасы и стратегические материалы. Количество советских военных специалистов и военных советников, порой осуществлявших непосредственное руководство боевыми действиями, измерялось тысячами человек. Советские лётчики осуществляли авиационное прикрытие китайских войск, совершали авианалёты на Тайвань и даже демонстрационный пропагандистский налёт на Токио (первый в истории Японии). Заметный процент будущих советских военачальников Великой Отечественной Войны получил боевой опыт именно в Китае; японо-китайская война была единственным полномасштабным военным конфликтом с первоклассным военным государством, в котором приняли участие советские специалисты до 1941 года. Опыт войны в Китае (перманентная мобилизация, эвакуация промышленности, организация широкомасштабной партизанской деятельности на оккупированной территории и т.п.) был с куда большим успехом и масштабом применён СССР в 1941-45 гг. Результатом указанной выше советско-китайской политики стало увязание японской сухопутной армии в затяжной войне на огромном пространстве континентального Китая. Япония уже не могла ни победить в этой войне, ни заключить приемлемый для своих имперских амбиций мир. Это, наряду с успехом советских войск в конфликте на Халхин-Голе, способствовало снятию непосредственной военной угрозы для СССР с Востока накануне начала Великой Отечественной Войны. И этот итог, безусловно, является лучшей оценкой для всей советской политики в Китае в 20-30-е гг. ХХ века. Весь период антияпонской войны 1937-41 гг. китайские коммунисты во исполнение советских директив формально признавали общенациональное лидерство Гоминьдана и его главы Чан Кайши, используя военную обстановку для укрепления собственных вооруженных сил и расширения своих баз на оккупированных японцами территориях. Фактически Чан Кайши и Мао Цзэдун, ставший к концу 30-х гг. безальтернативным лидером КПК, соблюдали по отношению друг к другу вооруженный нейтралитет, порой прерываемый военными столкновениями большего или меньшего масштаба. Формальным итогом советской политики в Китае накануне Великой Отечественной Войны стало подписание в конце апреля 1941 года советско-японского пакта о нейтралитете. СССР окончательно гарантировал безопасность своих восточных границ, при этом сохранил свободу рук в Китае. Надо отметить, что данный пакт непосредственно затрагивал интересы Китая, поскольку Япония и СССР в нём де-факто признавали существование МНР (просоветской Монголии) и Маньчжоу-Го (прояпонской «Маньчжурской империи») – Китайская Республика не признавали ни МНР, ни Маньчжоу-Го, считая их своими провинциями. В годы Великой Отечественной Войны СССР проводил весьма осторожную политику в Китае, направленную прежде всего на сохранение японского нейтралитета. При этом военная помощь оказывалась Китаю до конца 1941 года, а последние военные советники из СССР покинули Китай лишь к лету 1943 года (герой Сталинграда, будущий Маршал Советского Союза В.И.Чуйков поехал в Поволжье прямо с поста Главного военного советника в Китае весной 1942 г.). Впрочем, устойчивость чанкайшистского Китая в антияпонской войне с начала 1942 г. обеспечивалась уже США, которые после Пирл-Харбора вынуждены были сменить СССР в дорогостоящем и хлопотном деле снабжения воюющего Китая. Кстати, СССР, стремясь не провоцировать японский нейтралитет и не усиливать чрезмерно Чан Кайши, до 1945 г. под разными организационными предлогами так и не допустил транзита американских и английских военных грузов для Чан Кайши через свою территорию. Достаточно непростыми были отношения СССР и Компартии Китая в период Великой Отечественной войны, этому способствовали как объективные, так и субъективные причины. Еще в конце 30-х годов КПК и её лидер Мао Цзэдун настороженно реагировали на сближение Советского Союза с Чан Кайши, опасались, что значительная военная помощь СССР будет использована Гоминьданом против КПК. В силу военных сложностей СССР в начальный период войны 1941-45 гг. были ослаблены связи Москвы и Янъани, «столицы» китайских коммунистов. Поражения начального периода войны с Германией поколебали авторитет СССР в глазах лидеров КПК. Одновременно, китайские коммунисты установили достаточно регулярные отношения с работавшими на территории Китая представителями вооруженных сил, разведки и дипломатии США, американские представители были готовы работать с любыми антияпонскими силами в Китае, даже с «идеологическими противниками». Тем не менее, с середины 30-х годов уже ставший лидером КПК Мао регулярно и практически непрерывно поддерживает связь со Сталиным. С начала 40-х годов Мао превращается уже в безальтернативного и общепризнанного главу Китайской Компартии (что, однако, ещё не означает его безраздельную и абсолютную власть в партии), а его секретные контакты со Сталиным через шифрованную радиосвязь советской разведки становятся всё более интенсивными. Сам Сталин к тому времени считал КПК, закалившуюся в 20-летней вооруженной борьбе и создавшую мощную армию, «настоящей большевистской партией», а её лидера Мао - одним из наиболее выдающихся коммунистических лидеров за пределами СССР. После победного для сталинского СССР 1945 года военная победа китайских коммунистов в Китае всё ещё не казалась ни близкой, ни даже возможной. Более того, сам Мао Цзэдун в то время предполагал что давнее соперничество КПК и Гоминьдана продлится еще долго, возможно не один десяток лет. Таким образом, для Сталина и СССР Чан Кайши все еще оставался единственным и безальтернативным лидером общекитайского масштаба. Соперник Мао генералиссимус Чан Кайши в глазах Сталина (да и в объективной реальности) был безусловным китайским националистом, т.е. был готов бороться не только с советским или японским, но и чрезмерным американских влиянием на территории Китая. Таким образом, имелась реальная возможность появления на границах с СССР нейтрального Китая, свободного от заметного влияния каких либо сверхдержав. Нейтральный Китай в те годы не мог представлять для СССР какой-либо военной или иной опасности, и в ближайшей исторической перспективе представлял бы спокойного и в экономическом плане выгодного соседа. Для ослабленного войной СССР это было выгодно, во всяком случае, куда выгоднее, чем втягивание в непредсказуемую на момент 1945-46 гг. китайскую гражданскую войну. Что немаловажно, нейтральная по отношению к СССР политика чанкайшистского Китая могла быть обставлена надежными гарантиями в лице китайских коммунистов. КПК к 1946 г. имела не только весомый политический авторитет в Китае, была второй после Гоминьдана общекитайской политической силой, но и опиралась на серьёзную вооруженную силу (которая хотя и значительно уступала армии «национального правительства», но всё же надежно гарантировала китайских коммунистов от резни, которую с подачи Чан Кайши устроили не имевшим армии коммунистам в 1927-28 гг. китайские феодалы, компрадоры и милитаристы). Дружественные и поддерживаемые СССР китайские коммунисты были бы для Сталина надежным средством внутреннего давления на Чан Кайши. Одновременно, в условиях постоянного политического противостояния с Гоминьданом, КПК оставалась бы безусловным надёжным союзником СССР. Именно по этим причинам Советский Союз поддержал послевоенные инициативы США по «демократизации» Китая. У США были свои причины для такой политики. За годы Тихоокеанской войны они накопили достаточно противоречий с непредсказуемым и упрямым националистом Чан Кайши и были готовы несколько ослабить его диктатуру коалиционным «демократическим» правительством. Одновременно за годы войны Мао Цзэдун сумел создать в глазах заметной части американской политической общественности образ КПК, как независимой от Москвы крестьянской партии, ратующей едва ли не за демократические «фермерские» идеалы эпохи Вашингтона и Джефферсона. К тому же КПК имела заслуженный имидж честно воюющей с напавшими на США японцами, что выгодно отличало китайских коммунистов в глазах американцев от Чан Кайши, который вечно вымогал гигантскую помощь (старательно разворовываемую его коррумпированной кликой) и столь же старательно уклонялся от активных наступательных действий против японцев. Наиболее практичные американские политики рузвельтовского курса были готовы развивать отношения с китайскими коммунистами не смотря на их «неполиткорректное» наименование. Таким образом, к 1946 году существовали предпосылки для появления «нейтрального» Китая. И США и СССР по разным причинам и с зачастую противоположными целями приложили немало усилий для предотвращения гражданской войны между ГМД (Гоминьданом) и КПК. При этом США продолжали оказывать поддержку (в т.ч. военную помощь) Чан Кайши, а СССР на территории временно занятой советскими войсками Маньчжурии начал активную помощь КПК. К моменту капитуляции Японии основная масса вооруженных сил Чан Кайши (свыше четырех миллионов человек) находилась в южных районах Китая. Вооруженные силы КПК (по самым оптимистичным подсчётам около миллиона человек) находились в северных провинциях. Помимо куда меньшей численности, военные соединения КПК представляли собой полупартизанские формирования, в то время как войска Чан Кайши были регулярной армией, включавшей несколько десятков дивизий, подготовленных американскими офицерами и вооруженных современным американским оружием (включая тяжелое вооружение и бронетехнику). Надо отметить, что в 1941-45 гг. военные столкновения различной интенсивности происходили между войсками КПК и ГМД достаточно регулярно. Войска ГМД периодически пытались разоружать и блокировать коммунистические районы, а партизаны КПК в японском тылу успешно истребляли или переподчиняли себе любые остатки чанкайшистской администрации. Уже 23 августа 1945 г. начальник Генштаба Чан Кайши генерал Хэ Инцинь издал директиву для капитулировавших японских войск, в которой запретил им сдавать оружие войскам китайских коммунистов. Обе соперничающие стороны, и ГМД и КПК, пытались как можно скорее перебросить свои части на северо-восток Китая, прежде всего в богатую, промышленно развитую Маньчжурию. Именно в ходе такой переброски войск, когда обе стороны стремились как можно раньше занять оставшиеся после японцев территории, в начале октября 1945 г. и начались первые крупные боестолкновения между войсками КПК и ГМД. Продолжение следует |
|
#3
|
||||
|
||||
|
http://apn-spb.ru/publications/article15522.htm
Четверг, 13 февраля 2014  Фын Си - по-китайски "Западный ветер" - один из псевдонимов Иосифа Сталина, который он использовал в переписке с китайскими коммунистами. О роли Сталина в становлении Мао Цзэдуна как политика, их отношениях во время гражданской войны и начала строительства Нового Китая повествует историк Алексей Волынец в цикле статей, приуроченных к 120-летию Великого Кормчего. СССР по понятным причинам активно, хотя и скрыто поддержал на территории занятой им Маньчжурии китайских коммунистов. Уже 15 сентября 1945 г. в «столицу» КПК Яньань прибыл советский самолёт, чтобы доставить в Маньчжурию первых представителей руководства КПК. Вскоре политическое и военное руководство коммунистами на территории Маньчжурии стали осуществлять видные деятели КПК Гао Ганн и Линь Бяо (кстати, оба в последствии в разное время и по разным причинам были обвинены в просоветских симпатиях и погибли в ходе внутрипартийной борьбы). Советское командование открыло для войск КПК все пути и имевшиеся транспортные возможности для быстрейшей переброски войск КПК в Маньчжурию – к концу 1945 г. здесь была сформирована и вооружена преданным СССР трофейным японским оружием 100-тысячная так называемая «Объединённая Демократическая Армия» под командованием Линь Бяо, к весне 1946 г. она уже будет насчитывать свыше 300 тысяч бойцов, затем на её базе будет развернута почти миллионная группировка. Для комплектовании были использованы даже бывшие военнослужащие марионеточной «Маньчжоу-Го». В сентябре-ноябре 1945 г. советское командование передало китайским коммунистам практически все военные трофеи квантунской армии: 327877 винтовок и карабинов, 5207 пулеметов, 5219 артиллерийских орудий и миномётов, 743 танка и бронемашины, 612 самолётов, 1224 автомашины и трактора, были переданы значительные объемы боеприпасов, радио-телефонного и сапёрного оснащения. Войскам КПК были также переданы суда Сунгарийской речной флотилии. Здесь надо отметить, что, не собираясь форсировать гражданскую войну в Китае, СССР в конце 1945 г. ограничил свою военную помощь КПК исключительно передачей японских трофеев. Советское вооружение в тот период и до конца 1946 г. войскам КПК не поставлялось. В то же время США не прекратили массированную военную помощь Чан Кайши – только с октября 1945 г. по июль 1946 г. США, помимо артиллерийского и стрелкового вооружения, передали Чан Кайши 800 военных и транспортных самолётов, 200 военных судов, 12000 грузовых автомашин. К середине 1946 г. количество обученных и вооруженных американцами гоминьдановских дивизий достигло 57 общей численностью в 747 тысяч человек. С 21 августа 1945 г. чанкайшистский Китай оставался единственной страной в мире, в которую шли поставки по «ленд-лизу». На начало 1946 г. объём американской военной помощи ГМД заметно превышал аналогичную советскую помощь КПК. Кстати, советское командование в дипломатических целях запретило коммунистическим частям входить в те города, где располагались советские военные комендатуры, что вызвало массу недоумения и возмущения у красных полевых командиров, далёких от тонкостей международной политики. Стремясь усилить КПК и одновременно обезопасить свои границы и свою зону влияния, СССР всячески препятствовал переброске войск ГМД в Маньчжурию – для этого выдвигались дипломатически безупречные, но фактически издевательские причины. Железнодорожные пути бывшей КВЖД для войск Чан Кайши были блокированы со ссылкой на соответствующий советско-китайский договор, который предусматривал исключительно гражданское использование дороги. По аналогичным причинам не были допущены в крупнейший порт Дальний американские транспортные суда с войсками ГМД. Американцы предоставили Чан Кайши свою транспортную авиацию – советские части тут же оставили большинство аэродромов в Маньчжурии, которые немедленно заняли части КПК. Подобная политика СССР способствовала не только необходимому усилению КПК на северо-востоке Китая, но и тому, что правительство Чан Кайши официально обратилось к СССР с просьбой отсрочить вывод своих войск из Маньчжурии на несколько месяцев (Чан Кайши явно предпочитал видеть в Маньчжурии войска СССР, связанные международными обязательствами, а не безраздельное господство КПК). Впрочем, с 15 января 1946 г. СССР возобновил вывод своих войск. Всё это не помешало гоминьдановцам и иным китайским националистам развернуть в Китае компанию протеста по поводу вывоза СССР из Маньчжурии японского промышленного оборудования. В этом деле их активно поддерживали дипломаты и средства массовой информации США. Советский Союз невозмутимо заявил, что данное имущество – законные военные трофеи. Одновременно с военными маневрами, «гонкой вооружений» и всё нараставшей интенсивностью боёв между ГМД и КПК, в 1-й половине 1946 г. шли попытки «демократизации». Под нажимом СССР и США 27 декабря 1945 г. во временной столице Китая Чунцине начались переговоры между КПК и ГМД. 10 января 1946 г. там же открылась первая сессия т.н. Политического консультационного совета – временного правящего органа «демократического» Китая. Данный совет состоял из 38 делегатов, из них 8 представляли Гоминьдан, 7 – КПК, остальные делегаты по двое или по одному представляли многочисленные более мелки политические партии и организации Китая. 31 января 1946 г. Чан Кайши публично и торжественно продекларировал отказ от однопартийной системы в Китае. Одновременно с этими событиями и сразу после Московского совещания в Москве прошли две встречи Сталина с личным представителем Чан Кайши, которым выступал его старший сын Цзян Цзинго (проживший в СССР 12 лет, бывший член ВКП(б), в совершенстве владевший русским языком и счастливо женатый на русской женщине). Две продолжительные беседы Сталина и Цзиян Цзиного состоялись 30 декабря 1945 г. и 3 января 1946 г. Из анализа опубликованных материалов данных встреч, можно сделать вывод о серьезности намерений Сталина видеть по соседству с СССР «демократический» Китай, свободный от преобладающего влияния США и с легально действующими сильными местными коммунистами. Такие «прямые» переговоры Сталина и Чан Кайши вызвали достаточно нервную реакцию руководства КПК и лично Мао. Правительство СССР уже в январе 1946 г. направило лидерам КПК недвусмысленные объяснения: «Советское правительство выступает за прекращение гражданской войны, за мирное урегулирование внутренних проблем Китая самими китайцами без иностранного вмешательства». От имени ВКП(б) было дано несколько более откровенное объяснение, в том духе, что ЦК ВКП(б) «считает, что Компартии Китая не следует думать о советизации, а необходимо со всей решительностью сосредоточится на предотвращении гражданской войны и добиваться согласия Чан Кайши на осуществление демократизации. Если КПК не прекратит гражданской войны, то американские войска и авиация смогут подавить её наступление, поэтому следует в полной мере учитывать американский фактор». Как видим, американский фактор в Китае оказывал всё более нарастающее влияние на советскую политику в Китае. Здесь необходимо отметить, еще один крайне значимый для СССР момент, который уже в конце 40-х годов откровенно осветил генерал ВВС США Ченнолт, командовавший в 1942-45 гг. авиацией США, базировавшейся в Китае: «Вся русская промышленность к востоку от Уральских гор может подвергнуться с аэродромов, построенных для американцев в прошлую войну в Чэнду, Сиани, Ланьчжоу. Действуя с этих баз и десятков других, расположенных в Северном Китае, можно прервать тонкую нить коммуникаций между Восточной и Западной Сибирью с помощью даже небольших военно-воздушных сил… Такова ставка, ради которой мы ведём игру в Китае». С учётом имевшейся тогда монополии США на ядерное оружие и тотального превосходства американской стратегической бомбардировочной авиации, можно понять, почему СССР так напряженно реагировал на более чем 100 тысяч военнослужащих США, находившихся на территории Китая. В условиях возможной «третьей мировой» с применением ядерного оружия, проамериканский Китай, протянувшийся на 4 380 км вдоль «мягкого подбрюшья» СССР, представлял для нашей страны смертельную опасность и давал американским силам куда большую возможность для манёвра, чем относительно маленькая островная Япония и южная оконечность Корейского полуострова. Единственной в те годы возможностью минимизировать данные угрозы было отодвинуть линию развертывания американских войск и авиации как можно дальше от границ собственно СССР. Если это не получалось предпочтительным путём «демократизации» Китая и обеспечения его нейтральной политики, то делать это надо было любой ценой, даже рискованным и непрогнозируемым путём гражданской войны в Китае. Таким образом, перерастание нового военного конфликта ГМД и КПК в полномасштабную гражданскую войну было спровоцировано всеми четырьмя участниками данной «большой игры» за Китай: Чан Кайши, США, Мао и СССР Сталина. Чан Кайши не доверял СССР и справедливо видел в КПК единственную в Китае силу, способную хотя бы гипотетически отнять у него страну и власть (никакие другие силы после 1945 г. в Китае не представляли для него смертельной опасности). В США после смерти Рузвельта возобладала линия на мировое господство, вкупе с максимально возможным ограничением влияния СССР даже путём ядерной войны (вспомним, что в марте 1946 г. Черчилль, превратившийся по итогам мировой войны из партнёра в вассала США, уже произнёс свою знаменитую речь в Фултоне). Это подкреплялось обоснованной верой элиты США в собственные неограниченные экономические и военные возможности. КПК в лице Мао Цзэдуна, хотя и опасалась военного превосходства ГМД, но не верила в возможность «демократического» сосуществования с Чан Кайши, да и не желала такого сосуществования. В то же время «председатель Мао» верил в свою возможность вести повстанческую войну сколь угодно долго, и эта война была для него политически комфортнее возможного политического «сожительства» с Гоминьданом. Позиция СССР диктовалась «геополитическим» раздвоением - с одной стороны, после победы во Второй Мировой страна приобрела невиданные ранее военные и внешне-политические возможности, с другой стороны, была предельно ослаблена, практически надорвана прошедшей войной. И любая угроза новой войны, тем более ядерной со стороны такого могущественного противника как США, заставляли Сталина реагировать на стратегическое развитие обстановки у своих границ нервно и решительно. Таким образом, полномасштабная гражданская война в Китае становилась неизбежной. И итог её был непредсказуем. Последние советские войска, за исключением предусмотренного советско-китайскими договорами гарнизона на Ляодунском полуострове, покинули территорию Китая 3 мая 1946 г. Уже в апреле-мае 1946 г. на территории Маньчжурии развернулись полномасштабные бои между войсками ГМД и КПК. С учетом значительного численного и технического превосходства войск Чан Кайши регулярные силы КПК на первом этапе большой войны потерпели тяжелые поражения и оставили большую часть ранее контролируемых территорий. В северном Китае коммунисты оставили Яньань, бывшую 10 лет их неофициальной столицей – товарищу Мао пришлось вспомнить бурную партизанскую молодость. Кстати, переданные СССР коммунистам все трофейные боеприпасы японской квантунской армии закончились уже к лету 1946 г. Чан Кайши, однако, так и не решился занять Харбин – американские аналитики настойчиво советовали ему, опасаясь непредсказуемой реакции СССР, не выходить непосредственно к советской границе. Более того, военные и политические эксперты из США советовали Чан Кайши вообще первоначально отказаться от операций в Маньчжурии и сосредоточится на уничтожении коммунистического влияния и баз в северном Китае. Сейчас, с учетом всех происшедший событий, этот план представляется достаточно разумным. Но Чан Кайши попытался проглотить сразу всё и вскоре завяз в войне, где условная линия фронта представляла собой какие-то головокружительные ленты Мёбиуса. В июне 1946 г. Конгресс США принял закон о «военной помощи Китаю». В ноябре 1946 г. США с правительством Чан Кайши заключён масштабный договор «О дружбе, торговле и навигации». По данному договору США получали самые широкие права на территории Китая, напоминавшие европейские привилегии времён неравноправных договоров с Цинской империей XIX века. Наряду с этим договором США и правительство Чан Кайши заключили более 10 соглашений, в т.ч. соглашения об авиации, о сотрудничестве полиции, о пребывании войск США в Китае, о военно-морском флоте и др. США получали на территории Китая многочисленные военные и военно-морские базы (например, в Циндао – база на морском побережье, контролировавшая выход из Порт-Артура в Тихий океан; или база в Урумчи в глубине Синьцзяна в 2500 км от морского побережья, откуда стратегической авиации США открывался доступ к Москве с восточного направления). Таким образом, к концу 1946 г. уже не могло быть и речи о возможном нейтралитете чанкайшистского Китая. И с декабря 1946 г. СССР начинает регулярные поставки вооружения войскам КПК. Данные об этих поставках и в настоящее время не публиковались в открытой печати. В Маньчжурии, где ранее на базе китайских арсеналов японцами за годы оккупации была создана достаточно развитая военная промышленность, при помощи советских военных специалистов была воссоздана промышленная база по производству военной техники и вооружений. Впрочем, значительный объем носила и формально мирная помощь СССР силам КПК – фактически Советский Союз помог организовать и обеспечить все тыловые системы армии КПК: данные о поставках «мирной» продукции (автомашин, топлива, продовольствия, медикаментов, промышленного сырья и т.п.) опубликованы и дают весьма внушительный объём. Министр внешней торговли СССР Меньшиков М.А. докладывал Сталину в январе 1950 г., что торговые отношения между СССР и «демократическими силами» Китая начаты с декабря 1946 г., данная «торговля» производилась в основном без участия денежных средств, на основе товарообмена. Таким образом, можно понять, что разорённый мировой войной СССР не «снимал с себя последнюю рубашку» в деле помощи КПК, но оказывал эту помощь на очень льготных и часто безвозмездных для китайской стороны условиях. По сообщению министра Меньшикова в 1947 г. СССР поставил «демократическим силам» Китая оружия, оборудования, товаров и материалов на 151 млн.руб., в 1948 г. – 335,4 млн.руб., в 1949 г. – 420,6 млн. руб. По обменному курсу рубль тогда котировался выше американского доллара. Итого, около 907 млн. руб. или около 1,5 миллиарда долларов США. В те же годы общий объём помощи США режиму Чан Кайши составил 4,5 миллиарда долларов, т.е. в 3 раза больше. Советские военные и технические специалисты, обладавшие после Второй мировой исключительной квалификацией, все годы гражданской войны оказывали КПК необходимую помощь. Например, фактически, весь железнодорожный транспорт в тылу КПК действовал под руководством советских специалистов, ранее командовавших железнодорожными войсками на советско-германском фронте. Всего в Китае с 1946 по 1950 гг. погибло, умерло от ран и болезней 936 советских граждан. Из них офицеров - 155, сержантов - 216, солдат - 521 и 44 гражданских специалиста. При этом военное присутствие США в Китае было куда более масштабным – на начало 1948 г. свыше 100 тысяч солдат и матросов, на базах китайского побережья базировался 7-й американский флот (157 боевых вымпелов). Все годы гражданской войны и СССР, и США официально поддерживали дипломатические отношения с обеими сторонами внутрикитайского конфликта, соблюдая все необходимые формальности: военно-бюрократическая диктатура Чан Кайши была официальным признанным правительством Китайской Республики, а военная власть КПК была некими «демократическими силами» и органами местного самоуправления. 1946 г. – год решительного наступления ГМД и поражения КПК, 1947 г. – год неустойчивого военного равновесия. В 1948 г. происходит перелом в гражданской войне, к концу года коммунисты полностью контролируют Маньчжурию и северный Китай. В 1949 г. начинается стремительное наступление частей НОАК (Народно-освободительная армия Китая, так китайская Красная Армия официально именуется с 1946 г.) на юг Китая, через Хуанхэ к Янцзы. Не смотря на изначальное соотношение сил и соотношение помощи СССР и США сторонам конфликта, причины победы КПК и поражения ГМД можно кратко изложить следующим образом: 1) КПК, при всей острой внутрипартийной борьбе, представляла собой во внешнем мире монолитную политическую силу, в то же время этот «монолит» был в те годы способен привлекать и действовать в союзе с разными политическими силами, зачастую далёкими и даже враждебными коммунистическим идеям. ГМД представлял из себя куда более рыхлую структуру, а вся диктатура Чан Кайши, по сути, представляла собой полуфеодальную конфедерацию генералов. 2) За годы своей диктатуры ГМД растерял свой былой авторитет и в конце 40-х гг. уже никто в Китае не связывал с ним надежд на лучшее будущее. КПК давало надежду на это лучшее будущее сотням миллионов нищих крестьян, сочувствующей левым идеям интеллигенции и даже мелкой китайской буржуазии. 3) Полупартизанские войска КПК с их богатым партизанским опытом в специфических условиях гражданской войны оказались более устойчивым средством ведения вооруженной борьбы, чем оснащённые и организованные по американскому образцу гоминьдановские дивизии. 4) Одной из важнейших причин побед КПК стало наличие в коммунистических войсках не только опытных «полевых командиров», но и толковых «полевых менеджеров» - именно так можно назвать политкомиссаров КПК в китайских красных отрядах, в задачу которых входила не только политическая пропаганда, но и организация жизни и хозяйства на территориях, контролируемых красными партизанами и регулярными частями. За долгие годы гражданских войн и войны с японскими оккупантами эти «полевые менеджеры» накопили большой опыт эффективной деятельности такого рода, при чём в очень жестких условиях при крайней скудности ресурсов. К тому же они, фанатики коммунистической идеологии, в отличие от разложившихся госчиновников Гоминьдана, чьи нравы повергали в шок даже спекулянтов из США, имели фактически нулевой уровень коррупции и были готовы максимально эффективно использовать любую помощь. По этой причине эффективность более скромной по объёмам советской помощи перекрыла эффективность массированной помощи из США. В январе 1949 г. Чан Кайши обращается к СССР за посредничеством в организации возможных переговоров с КПК о мире. Министр иностранных дел СССР А.Я.Вышинский отвечает китайскому послу в том духе, что Советский Союз, «неизменно придерживаясь принципов невмешательства в дела других стран, не считает целесообразным принять на себя посредничество», о котором просит правительство Чан Кайши. Кстати, у Сталина были подозрения, что из штаб-квартиры Мао Цзэдуна информация об этом запланированном отказе СССР ушла, и возможно целенаправленно, по агентурным каналам в США – Мао опасался, что СССР может принудить его к миру с Чан Кайши в разгар победоносного наступления, и чтобы сорвать это гипотетическое перемирие мог пойти и на несанкционированные контакты с США. По мере приближения победы КПК нарастала необходимость личной встречи Мао и Сталина, для детального обсуждения будущих отношений между СССР и коммунистическим Китаем. Мао предполагал нанести такой секретный визит в Москву еще в 1948 г., но Сталин не был уверен в возможности сохранения такой поездки в абсолютной секретности (в т.ч. не был уверен, что этой секретностью, при необходимости, не пожертвует сам Мао). По этой причине в январе-феврале 1949 г. в ставку Мао прибыл с визитом один из ближайших соратников Сталина заместитель председателя Совета Министров СССР и член Политбюро ЦК ВКП(б) А.И.Микоян. С 30 января по 7 февраля шли его насыщенные переговоры и консультации с руководством КПК. Впервые обсуждались примерные положения будущего межгосударственного договора между Советским Союзом и Советским Китаем. Всё это происходило на фоне Чан Кайши, всё еще сидевшего в своей столице Нанкине (Нанкин – дословно «южная столица», Пекин – дословно «северная столица» с 31 января 1949 г. уже контролировался КПК). Эти секретные контакты на высшем уровне вскоре продолжились в ходе тайного визита в Москву 3-го человека в Компартии Китая секретаря ЦК КПК Лю Шаоци в июне-августе 1949 г. Непосредственно перед этим визитом войска НОАК форсировали Янцзы (последний стратегический рубеж на котором Чан Кайши надеялся остановить наступление КПК на континенте), захватили Нанкин и крупнейший экономический центр Китая портовый мегаполис Шанхай (интересно, что перед этим готовившиеся к обороне в городе чанкайшистские генералы гордо называли его «Вторым Сталинградом»). Перед КПК уже помимо чисто военных стояли и пугающие по масштабам экономические задачи организации хозяйственной жизни в масштабах всего Китая. Именно эти хозяйственно-экономические задачи обсуждались Лю Шаоци в Москве. В итоге, секретарь ЦК КПК Лю Шаоци и секретарь ЦК ВКП(б) Георгий Маленков подписали секретное соглашение о предоставлении Всесоюзной коммунистической партией большевиков Компартии Китая практически беспроцентного кредита в размере 300 миллионов долларов. С учетом изменившейся стоимости доллара это будет почти 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов!). Такое «финансовое» соглашение двух политических партий до сих пор является беспрецедентным в истории международных взаимоотношений. И это была очень крупная сумма для СССР, в то время почти не имевшего валютных запасов. Но безопасность от «летающих крепостей» с ядерными бомбами стоит любых денег... Кстати, Лю Шаоци, так же как Гао Ган и Линь Бяо, в будущем расстанется с жизнью в ходе внутрипартийной борьбы. Впрочем, всех павших в ходе внутренней политической борьбы в КПК или ВКП(б) совершенно не стоит считать невинными жертвами. Маленков, кстати, тоже падет в такой борьбе, но жизнь в отличие от Лю Шаоци сохранит. Одновременно с соглашением Лю-Маленкова о межпартийном кредите было подписано и соглашение о предоставлении КПК экономической помощи, которое было замаскировано под «соглашение советских организаций с демократическими властями Северо-Востока Китая». Срок соглашения устанавливался в 1 год – было понятно, что дальнейшее соглашение уже будет официальным межгосударственным. В СССР в обтекаемых формах это соглашение было обнародовано уже в официальной печати. Через 6 дней исполняющий обязанности главы МИД чанкайшисткого Китая вручил по этому поводу ноту протеста временному поверенному в делах СССР в Китае. Политбюро ЦК ВКП(б) по данной ноте приняло самое простое и логичное в этой ситуации решение – не отвечать. Когда Чан Кайши от отчаяния начал налеты своей бомбардировочной авиации (оснащенной США) на Шанхай, из Порт-Артура по просьбе КПК были переброшены в район Шанхая две советские истребительные дивизии, достаточно легко остановившие эти налёты. При этом дипломатические представители СССР были последними дипломатами, которые по распоряжению Сталина до конца оставались при правительстве Гоминьдана – после того как это правительство бежало из Нанкина дальше на юг в Гуанчжоу (последний крупный центр на Юге Китая), послы США, Англии и других стран за ним не последовали. Исключение составили лишь советские дипломаты. Впрочем, эта их дипломатическая вежливость по отношению к режиму Чан Кайши диктовалась лишь стремлением СССР до конца избегать возможности открытого вмешательства вооруженных сил США в китайскую гражданскую войну. Как сообщил Сталин в секретной телеграмма Мао Цзэдуну, советский посол Рощин остался рядом с Чан Кайши «для разведки, чтобы он мог регулярно информировать нас о положении на юге от Янцзы, а также в кругах гоминьдановской верхушки и их американских хозяев». Советский посол Н.В.Рощин был последним иностранным дипломатом, который покинул Чан Кайши непосредственно перед вылетом разбитого генералиссимуса на Тайвань, и тут же направился в Пекин, чтобы стать первым послом СССР в Китайской Народной Республике, торжественно провозглашенной Мао Цзэдуном 1 октября 1949 г. В том самом 1949 году Сталин, что весьма нехарактерно для него, даже публично признал допущенную им тремя годами ранее ошибку в оценке им перспектив победы китайских коммунистов в гражданской войне с Чан Кайши. Мао, в свою очередь, при всех сложностях отношений (а он за годы гражданской войны, естественно, не раз выказывал недовольство, например, недостаточными объёмами военной помощи из СССР), воспринимал Сталина, как бесспорного морального и политического авторитета, вождя, уже достигшего всех тех вершин, к которым стремился сам Мао. После 1949 года, с момента победы КПК в гражданской войне и захвата государственной власти в Китае, эти отношения между Мао и Сталиным, закономерно, приобрели некоторые новые нюансы. Здесь все достоинства Мао и КПК – самостоятельность, сила и высокая степень независимости - диалектически превращались в потенциальные помехи для бесперебойного проведения сталинской политики. Сталин проводил жесткую политику даже в отношении своих ближайших товарищей и союзников. Не был исключением и Мао. В силу закономерных исторических причин, в рядах КПК, прежде всего его высшего руководства было немало лиц, сотрудничавших с советскими спецслужбами (для многих тогда это сотрудничество было естественным и высшим проявлением коммунистических убеждений). В западных публикациях имеются сведения, что с советской разведкой сотрудничали и снабжали её внутренней информацией КПК такие высшие лидеры китайских коммунистов, как Лю Шаоци (к концу 40-х гг. занимавший едва ли не второе место в КПК) и уже упоминавшийся маньчжурский руководитель Гао Ган. Те же источники сообщают, что в конце 1950 г. агенты МГБ СССР установили в резиденции Мао подслушивающие устройства. Даже если все эти сведения не соответствуют действительности, без сомнения, спецслужбы СССР в то время обладали впечатляющими агентурными позициями и возможностями в КПК и КНР, а Сталин считал негласный контроль за союзниками, даже самыми надёжными, не менее, а то и более важным, чем даже за врагами и соперниками. Вверху - встреча Мао с Чан Кайши на переговорах. 1946 г. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
http://apn-spb.ru/publications/article15811.htm
Четверг, 13 февраля 2014 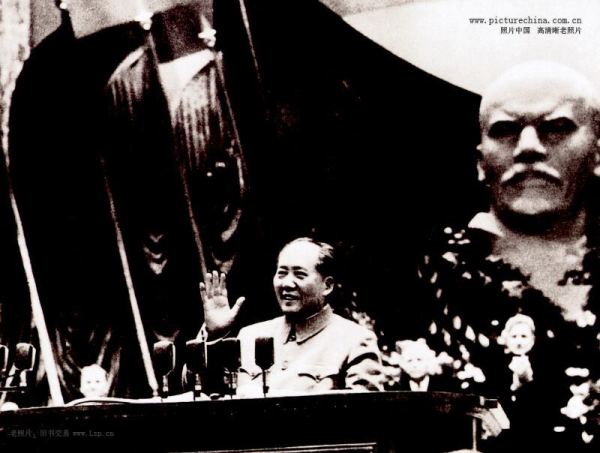 Фын Си - по-китайски "Западный ветер" - один из псевдонимов Иосифа Сталина, который он использовал в переписке с китайскими коммунистами. О роли Сталина в становлении Мао Цзэдуна как политика, их отношениях во время гражданской войны и начала строительства Нового Китая повествует историк Алексей Волынец в цикле статей, приуроченных к 120-летию Великого Кормчего. Китай стал крупнейшим государством прокоммунистической, социалистической ориентации, возникшем в мире после Второй мировой войны. И здесь ярко проявилось такое и поныне малоизученное явление, которое ёмко охарактеризовал советский дипломат и востоковед сталинских времён А.М.Ледовский: «Отметим, что на внешнюю политику Советского Союза, разработку её линии оказывало большое влияние отсутствие у советского руководства опыта отношений с правящими коммунистическими партиями, поскольку до Второй мировой войны таких партий практически не было». Действительно, таких партий не было, т.к. единственной правящей «коммунистической» партией, помимо ВКП(б), до 1945 года была лишь Монгольская народно-революционная партия, которую сложно назвать в полной мере самостоятельной и независимой. Таким образом, и у руководителей СССР, и тем более у руководства новых социалистических государств отсутствовали и практические, и теоретические навыки построения межгосударственных отношений внутри социалистического лагеря. Специфический опыт Коминтерна тут мало чем мог помочь. Ситуацию в Восточной Европе несколько упрощала существенная зависимость местных компартий от ВКП(б) и присутствие на территории этих стран вооруженных сил СССР. Сложнее оказалось там, где местные коммунисты обладали собственными самостоятельно выросшими вооруженными силами и достаточно независимыми и развитыми международными связями. Не случайно такой «первый блин комом» вышел именно с Югославией уже в 1948 г., там все вышеупомянутые факторы самостоятельности присутствовали в полной мере. Но в еще большей степени эти факторы присутствовали у Коммунистической Партии Китая и новообразованной Китайской Народной Республики. На таком сложном, противоречивом фоне и состоялась первая советско-китайская встреча на высшем уровне. Это была, действительно, первая за всю многовековую историю наших стран-соседей личная встреча высших лидеров России и Китая. 16 декабря 1949 г. Мао Цзэдун прибыл с официальным визитом в Москву. Это была первая его поездка за пределы Китая. Визит сопровождался чрезвычайными политическими мероприятиями и мерами безопасности. План официального визита Мао в деталях был разработан и утверждён Политбюро ЦК ВКП(б). В Москве лидера КНР и КПК встречали все высшие руководители СССР, за исключением Сталина: 1-й зампред Совета министров СССР Н.Булганин, глава МИД А.Вышинский, министр Вооруженных сил СССР А.Василевский, и, фактически, второй человек в советской иерархии В.Молотов. Мао Цзэдун был принят И.В.Сталиным в тот же день по прибытии в Москву. После этого состоялись две продолжительные беседы, не считая встреч на московских мероприятиях, т.е. дипломатических приемах и торжествах, посвященными 70-летию И.Сталина. Между Сталиным и Мао Цзэдуном поддерживались повседневные контакты через министра иностранных дел СССР А.Вышинского, представителя ЦК ВКП(б) при ЦК КПК И.Ковалева и прибывшего вместе с Мао Цзэдуном посла СССР в Китае Н.Рощина. Перед своей поездкой в Москву Мао Цзэдун сообщил Сталину, что он не собирается вести официальных переговоров как таковых, а лишь имеет в виду обмен мнениями со Сталиным по интересующим обе стороны вопросам. Также Мао сообщил о намерении использовать поездку в Москву для того, чтобы укрепить свое здоровье, пройти медицинское обследование и подлечиться перед предстоящей колоссальной работой, которой ему, Мао Цзэдуну, предстояло заниматься как главе крупнейшего государства и правящей партии. В этой связи он намерен был пробыть в СССР, по возможности, длительный срок. Из-за здоровья Мао Цзэдун просил не загружать его участием в официальных мероприятиях, предоставить больше времени для отдыха и укрепления физических сил, поскольку у себя дома, в Пекине, у него не было таких возможностей. Для Мао Цзэдуна, учитывая это, были созданы все необходимые комфортные условия с самым высоким медицинским и другим обслуживанием, отвечающим его пожеланиям и соответствующим его высокому положению. Но, судя по всему, именно здесь проявилось недопонимание высокими сторонами друг друга: прося не загружать его официальными мероприятиями Мао явно рассчитывал на более тесное неформальное общение со Сталиным; а Сталин же выполнил пожелания китайского лидера буквально, оставив его надолго скучать в санаторных условиях. В итоге Мао неоднократно выражал совё недовольство этим в личных беседах. С другой стороны, данное поведение и Сталина, и Мао могло быть и средством дипломатического давления на противоположную сторону. Полностью узнать истинные личные чувства этих сложных людей, даже не основе анализа всех документов, не представляется возможным. 21 декабря 1949 г. в Москве в Большом театре состоялось торжественное заседание, посвященное 70-летию И.В.Сталина. В президиуме вместе с высшими руководителями СССР находились прибывшие на торжества руководители зарубежных коммунистических партий. Самое почетное место за столом президиума - рядом со Сталиным - было отведено Мао Цзэдуну. Из числа высших зарубежных гостей Мао Цзэдуну первому предоставлялось слово для выступления. В своей речи Мао заявил: «Китайский народ в борьбе против угнетателей всегда глубоко и остро чувствовал и чувствует всю важность дружбы товарища Сталина..» 22 декабря правительство СССР устроило государственный прием в честь 70-летия Сталина. Среди присутствующих на приеме глав зарубежных делегаций Мао Цзэдуну со стороны советского руководства было оказано самое большое уважение и внимание. В честь иностранных делегаций предложенный первый тост провозглашен был "за китайский народ, за присутствующих в зале представителей Китайской Народной Республики, за вождя китайского народа товарища Мао Цзэдуна". 22 января 1950 г. состоялась встреча И.В.Сталина с Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем и его заместителем Ли Фучунем. На ней присутствовали также В.М.Молотов, Г.М.Маленков, А.И.Микоян, А.Я.Вышинский и Н.В.Рощин. После протокольной церемонии встречи И.В.Сталин предложил начать переговоры с вопроса о советско-китайском договоре и соглашениях 1945 г. и, взяв инициативу в свои руки, первым высказался за пересмотр договора 1945 г. и заключение нового договора. Сталин заявил: "Мы считаем, что эти соглашения надо менять, хотя раньше мы думали, что их можно оставить". Мао Цзэдун напомнил о прежней аргументации Сталина: "Но ведь изменение этого соглашения задевает Ялтинское соглашение?!" Сталин ответил: "Верно, задевает, ну и черт с ним. Раз мы стали на позицию изменения договора, значит нужно идти до конца. Правда, это сопряжено с некоторыми неудобствами для нас и нам придется вести борьбу против американцев. Но мы уже с этим примирились". Безусловно, США являлись главным противником и СССР, и КНР, которому обе страны уделяли повышенное внимание. Хотя сам новый советско-китайский договор был искусно закамуфлирован под оборонительное соглашение против... Японии. 1 статья Договора гласила: «Обе Договаривающиеся Стороны обязуются, что ими совместно будут предприниматься все имеющиеся в их распоряжении необходимые меры в целях недопущения повторения агрессии и нарушения мира со стороны Японии или любого другого государства, которое прямо или косвенно объединилось бы с Японией в актах агрессии. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны Японии или союзных с ней государств, и она окажется, таким образом, в состоянии войны, то другая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами». Собственно, в невозможности близкой агрессии со стороны разгромленной в 1945 году Японии сомнения ни у кого не было – под осторожной формулировкой «другого государства, которое прямо или косвенно объединилось бы с Японией в актах агрессии» без труда угадывались Соединённые Штаты Америки. Помимо дипломатической маскировки, признание в договоре Японии в качестве главного противника КНР и СССР на Дальнем Востоке было выгодно Советскому Союзу. В этом случае помощь КНР должна была оказываться только при нападении самой Японии или с ее участием, а это в ближайшее время не было возможным. С другой стороны, Советский Союз всегда мог оказать любую военную помощь Китаю, если посчитает нужным признать союзником Японии США или другие страны. Здесь необходимо отметить, что в ходе переговоров наиболее жесткими и неуступчивыми выступали вторые лица обеих государств – Молотов и Чжоу. Сталин и Мао оба выступали в роли «добрых следователей». Например, Чжоу Эньлай предложил продолжить совместную эксплуатацию КЧЖД, но в управлении дорогой главную роль отдать китайской стороне. В.Молотов высказал возражения, указав, что это противоречит общепринятой международной практике, предусматривающей паритетное участие сторон в совместных предприятиях и чередование в замещении руководящих должностей. Чжоу Эньлай выступил также за отмену существующей паритетности в капиталовложениях и увеличение пакета акций Китая до 51%. Молотов возразил против предложений Чжоу Эньлая, заметив, что это идет вразрез с международной практикой. Сталин поддержал Молотова, указав, что на паритетных условиях СССР имеет соглашения с другими странами. Заняв примирительную позицию, Мао Цзэдун заявил, что "нужно дополнительно изучить этот вопрос с таким расчетом, чтобы были обеспечены интересы обеих сторон". Впрочем, эти сложности в ходе переговоров отражают не только существование советско-китайских противоречий (что естественно в отношениях великих государств), но, прежде всего, отражают стремление обеих сторон найти приемлемые для всех решения, выгодные и СССР, и КНР. 14 февраля 1950 г. состоялось официальное подписание Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР и соглашений о КВЖД, Порт-Артуре и порте Дальнем. Со стороны СССР договор подписал министр иностранных дел СССР А.Я.Вышинский, от КНР — министр иностранных дел Чжоу Эньлай. При подписании присутствовали Сталин и Мао Цзэдун. Одновременно А.Я.Вышинский и Чжоу Эньлай обменялись нотами о том, что заключенный ещё с Чан Кайши в 1945 году договор о дружбе и союзе между СССР и Китаем теряет силу и "оба правительства констатируют полную обеспеченность независимого положения Монгольской Народной Республики в результате референдума 1945 г. и установления дипломатических отношений с ней Китайской Народной Республики". Кстати, узнав о заключении нового советско-китайского договора бежавший на Тайвань бывший всекитайский диктатор Чан Кайши заявил о расторжении советско-китайского договора 1945 г. и о том, что Монголия является неотъемлемой частью Китая. Впрочем, мнение Чан Кайши в СССР и континентальном Китае никого уже не интересовало, вскоре Сталин с презрением назовёт его «гоминьдановским чучелом». Но здесь же необходимо отметить, что вопрос о Монголии был одним из сложнейших в ходе советско-китайских переговоров. Мао, подобно собравшим распавшуюся романовскую империю русским большевикам, также стремился собрать воедино распавшуюся империю Цинн. Поэтому он еще с начала 1949 г. настойчиво добивался у Сталина возможности включить в состав коммунистического Китая и «Внешнюю Монголию», хотя бы на правах федерации. В ходе переговоров «монгольский вопрос» весьма настойчиво ставился и Мао, и Чжоу Эньлаем, но Сталин монотонно отвечал, что МНР — независимое государство, правительство СССР не может приказывать руководителям МНР, как им поступать... Фактически подписанный с маоистским Китаем договор и дополнительные соглашения к нему создавали, с одной стороны, уверенность у КНР в поддержке нового союзника, а с другой - позволяли СССР дистанцироваться от коммунистического Китая в случае его войны с США. По сути, данный договор открывал для СССР возможность втянуть США в изнурительные локальные противостояния с коммунистическим Китаем и в то же время избежать прямого столкновения с США, которое в те годы неизбежно вылилось бы в мировую войну с применением ядерного оружия. В то же время, втянув США в затяжные локальные войны на изнурение (мастерами которых как раз и были китайские коммунисты, причём именно против технически более оснащенного противника), СССР получил бы возможность передышки и пространство для манёвра, а главное - выиграл бы время для сокращения научного и военно-технического отставания от сверхбогатых США. В итоге именно эта сталинская стратегия и была реализована в ходе многолетнего вооруженного противоборства КНР и США в рамках Корейской войны 1950-53 годов (Подробнее об этом - см. материал "60 лет назад кончилась самая выгодная война", опубликованный на сайте "Русская планета"). Copyright © 2006-2013 «Агентство Политических Новостей Северо-Запад» При полном или частичном использовании материалов, ссылка на "АПН Северо-Запад" обязательна |
|
#5
|
||||
|
||||
|
http://www.apn-spb.ru/publications/article16288.htm
Воскресенье, 20 апреля 2014  Фын Си - по-китайски "Западный ветер" - один из псевдонимов Иосифа Сталина, который он использовал в переписке с китайскими коммунистами. О роли Сталина в становлении Мао Цзэдуна как политика, их отношениях во время гражданской войны и начала строительства Нового Китая повествует историк Алексей Волынец в цикле статей, приуроченных к 120-летию Великого Кормчего. «...Самым важным результатом победы союзных стран над германским фашизмом и японским империализмом является торжество национально-освободительного движения в Китае... После Октябрьской революции в нашей стране победа народно-освободительного движения в Китае является новым сильнейшим ударом по всей системе мирового империализма и по всем планам империалистической агрессии в наше время» - эта фраза ключевого человека в сталинской иерархии В.М.Молотова не является случайной. Более того, при рассмотрении советско-китайских отношений того периода становится понятно, что эта фраза центральная и ключевая. Не случайно она используется в предисловии практически всех советских изданий по Китаю периода 1950-53 гг. Для современного человека может показаться странным, что высшие советские лидеры считали главным результатом Второй мировой войны 1939-45 гг. победу китайских коммунистов в Китае 1949 года. Но после рассмотрения советско-китайских отношений это значение становится предельно ясным. Разгром гитлеровской Германии был для СССР вопросом выживания, а вопрос выживания – это главная цель лишь для малых и средних государств; основной вопрос великих держав – вопрос экспансии и доминирования на планете. Разгром Германии и контроль над Восточной и Центральной Европой, безусловно, усилили значение СССР в мировой политике. Но в 1945 г. СССР был крайне ослаблен минувшей войной, к тому же США обладали монополией на ядерное оружие. Поэтому, именно победа коммунистов Китая и создание собственного ядерного оружия, что произошло практически одновременно в 1949 г., дали СССР возможность уверенно и обоснованно заявить притязания на мировое лидерство не только в идеологическом, но и в практическом плане. Соединение ресурсов СССР и союзного Китая открывало для всего советского блока самые блестящие стратегические перспективы, о которых было невозможно и думать до 1949 года. Не случайно именно в 1950 г. по сути начинается стратегическое наступление советского блока во всём Азиатско-Тихоокеаснокм Регионе: Корея, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Индонезия... Поэтому не случайна и фраза еще одного из первых лиц СССР из сталинской плеяды Г.М.Маленкова: «С победой китайской демократия открылась новая страница в истории не только китайского народа, но и всех народов Азин, угнетаемых империалистами. Национально-освободительная борьба народов Азии, бассейна Тихого океана, всего колониального мира поднялась на новую, значительно более высокую ступень. Торжество китайской демократии означает серьёзное укрепление позиций мирового демократического антиимпериалистического лагеря, борющегося за прочный мир». Здесь можно добавить – борющегося не только за прочный мир, но за весь мир, целиком, за весь земной шар... Именно с 1950 г. СССР получил возможность начать борьбу за планетарное влияние, переведя старую коминтерновскую идею мировой революции на новый, более практический уровень. Обратите внимание и на «демократическую» риторику – идеи «Новой демократии» или «Народной демократии» были выдвинуты идеологами сталинизма как раз во второй половине 40-х годов, в противовес «старым» империалистическим буржуазным демократиям Запада... Коммунистический Китай для СССР становится основным союзником и главным проводником советской политики на всём Дальнем Востоке. При помощи Китая Сталин втягивает США в изнурительную войну на Корейском полуострове и целую серию иных локальных конфликтов, прежде всего во Вьетнаме, а также - на Филиппинах и в Малайзии. Эти конфликты крайне выгодны СССР, т.к. он практически не несёт военных потерь, а США сковывают свои военные силы, несут всевозможные военные, экономические и политические потери. Так, посредством красного Китая, СССР выигрывает время для экономической, военной и научной подготовке к борьбе с США за мировое лидерство. Более того, эти конфликты (и, прежде всего, война в Корее) еще более надежно привязывают к СССР такого самостоятельного и независимого союзника, как огромный коммунистический Китай. В этом же ключе развиваются и советско-китайские отношения в экономической сфере. СССР оказывает КНР крупную экономическую помощь в гражданской и военной сфере. Эта помощь очень выгодна Китаю. Но, что крайне важно, для СССР эта помощь выгодна в не меньшей, а то и в большей степени... Сталин проводит в Китае очень взвешенную и расчетливую экономическую политику. Посредством советских кредитов Китай рассчитывается за советские же поставки, у советской промышленности появляется новый огромный рынок, а кредиты возвращаются в советскую же экономику. Участие советских специалистов в строительстве новой китайской экономики закладывает всю нормативную и технологическую базу китайской промышленности, что крепко привязывает КНР к советской политической и экономической системе. Здесь уместно привести слова начальника Восточного Управления Министерства внешней торговли СССР М.И.Сладковского, сказанные в 1953 г., что именно после создания КНР «образовалось два параллельных мировых рынка, противостоящих друг другу, — рынок стран демократического лагеря и рынок стран капиталистического лагеря». По сути, о периоде 1950-53 гг. можно говорить как о периоде советских «инвестиций» в новый союзный Китай. И «инвестиции» эти приносят немедленную внешнеполитическую «прибыль» в виде стремительного роста советского влияния в Азии. После 1949 г., когда у СССР появляется атомное оружие, а вместе с союзным коммунистическим Китаем - и численный перевес над коалицией США, у советского руководства появляется даже некоторая эйфория во взглядах на перспективы соперничества с США. До 1949 г. ослабленный войной Советский Союз мог лишь более менее успешно сопротивляться росту влияния США, с 1949 г. СССР, опираясь на союз с Китаем и ликвидацию американской ядерной монополии, переходит в геополитическое «наступление». Как сказал сам Сталин летом 1950 года в письме Клементу Готвальду: «…борьба Америки с Китаем должна революционизировать всю Дальневосточную Азию. Дает ли все это нам плюс с точки зрения мировых сил? Безусловно, дает». Это «наступление» успешно развивается до момента смерти Сталина, когда вся отлаженная и заточенная под личность Сталина политическая система советского блока даёт сбой. Оставшиеся без Сталина новые лидеры СССР не имеют ни нужной уверенности, ни необходимого авторитета, что практически сразу сказывается и на внутренней и на внешней политике СССР. Если обратиться собственно к Китаю, то союз с СССР дал ему возможность фактически впервые за 100 лет объединиться в единую страну, прекратить многолетние внутренние войны и остановить нарастающую деградацию китайской цивилизации. КНР рассматривалась в сталинском СССР как основной союзник, причём союзник мощный и обладающий собственными интересами. Здесь роль и вес Китая несопоставимы с ролью просоветских государств Восточной Европы, вес которых как союзников был несоизмеримо мал. Надо отметить, что значение союза с СССР в то время ясно осознавали и китайские коммунисты. Как исал Мао Цзэдун: «Идти по пути русских – таков был вывод». Более того, в разрабатываемой на протяжении 1953 года Конституции Китайской Народной Республики, едва ли не впервые в мировой практике, были закреплены союзные отношения с соседним государством: «Наша страна уже установила отношения нерушимой дружбы с великим Союзом Советских Социалистических Республик и со странами народной демократии...» («Конституция КНР». Издательство литературы на иностранных языках. Пекин, 1954 г., стр. 9) В докладе о проекте конституции Лю Шаоци, в то время третий человек в КПК и КНР, говорил: «Путь Советского Союза — это путь, который соответствует законам исторического развития и по которому неизбежно пойдет человеческое общество. Избежать этого пути невозможно». Здесь необходимо добавить, что при всей сложности и неоднозначности отношений лидеры КНР, прежде всего Мао, признавали безусловный авторитет И.Сталина и его лидирующее положение среди руководителей социалистического блока. Именно смерть Сталина в марте 1953 г. в корне изменила ситуацию. Сталин был центральной, ключевой фигурой и в отношениях СССР с Китаем, и в отношениях лидеров КПСС и КПК. Со смертью Сталина ломается вся созданная система советско-китайских отношений, основанная на советско-китайских соглашениях, на совместном участии в локальных конфликтах и на специфике личных отношений двух тоталитарных вождей. С этого момента советско-китайские отношения теряют свою сбалансированность в экономической сфере, исчезает наступательный вектор и в совместной внешней политике. Изменения во внутренней и внешней политике СССР, произошедшие после смерти Сталина, фактически сразу начинают сказываться на советско-китайских отношениях. По сути, СССР отходит от прежней сталинской практики продуманного и взаимовыгодного сотрудничества; новые неуверенные лидеры СССР, стремясь укрепить своё внутреннее и международное положение, достаточно быстро скатываются ко всё более расточительной помощи союзным и иным странам. 21 марта 1953 г. в Москве было подписано соглашение об оказании Советским Союзом помощи КНР в расширении действующих и строительстве новых электростанций. Практичные лидеры КНР поспешили воспользоваться этой переменой в советской политике. Уже 15 мая 1953 г. состоялось подписание советско-китайского соглашения о содействии КНР в строительстве и реконструкции 141 промышленного объекта. В это число вошли 50 предприятий по соглашению от 14 февраля 1950 г. и 91 крупное промышленное предприятие дополнительно. Впрочем, последствия изменения прежнего курса скажутся через несколько лет... Товарооборот между КНР и СССР в 1953 г. по сравнению с предыдущим годом возрос более чем на четверть. Удельный вес КНР в общем объеме внешнеторгового оборота Советского Союза в 1953 г. составлял 20%, а удельный вес Советского Союза в общем объеме внешнеторгового оборота КНР — свыше 55%. Здесь ещё сказывается инерция сталинского периода, но во второй половине 50-х гг. ХХ века советско-китайские отношения в экономической сфере претерпят заметные изменения, при Хрущёве из взаимовыгодных (и зачастую несколько более выгодных для СССР) всё более превращаясь в одностороннюю помощь со стороны Советского Союза. Одновременно, сразу после смерти Сталина новое советское руководство совместно со своими китайскими и корейскими союзниками, уже уставшими от войны, пошло на прекращение безусловно выгодной для СССР войны на Корейском полуострове. Уже 31 марта 1953 г. переговоры в корейском Паньмыньчжоне возобновились и завершились подписанием перемирия 27 июля 1953 г. Таким образом завершилась война в Корее, что сразу ослабило советское «наступление» в Азии – вскоре были подавлены коммунистические партизанские движения в Малайзии и на Филиппинах, остановилось наступление Хо Ши Мина в южном Вьетнаме (который до 1975 г. останется, подобно Корее, разделенным на северное коммунистическое и южное проамериканское государства), остановится и «коммунизация» Индонезии. Новые вожди СССР уже не будут пользоваться безусловным авторитетом у Мао Цзэдуна и лидеров КПК. Более того, сам Мао начнёт претендовать на роль основного лидера социалистического блока. Заметим, что Мао делал это на веских основаниях – он, безусловно, был фигурой масштаба Ленина и Сталина, на фоне которого и Н.Хрущёв и Л.Брежнев представляются весьма средними партфункционерами. Неуверенное и неавторитетное поведение новых лидеров СССР на фоне роста амбиций руководства КНР в итоге приведет к расколу советско-китайского блока, что обернётся тяжёлыми последствиями и для Китая, и для нашей страны. Советско-китайский раскол навсегда похоронит реальные основания для претензий СССР на планетарное лидерство и поспособствует скатыванию КНР в затянувшийся кризис «большого скачка» и «культурной революции». Здесь следует добавить несколько слов и о советско-китайских пограничных проблемах, которые, что закономерно, впервые начнут проявляться именно в 1953 году, сразу после смерти Сталина. К моменту образования Китайской Народной Республики вопрос о линии прохождения границы между СССР и Китаем на официальном уровне не ставился. В начале 50-х гг. СССР передал КНР топографические карты с обозначением всей линии границы. С китайской стороны каких-либо замечаний по поводу линии проведения границы не последовало. В годы, когда советско-китайские отношения находились на подъеме, а экономическое становление и безопасность Китая в немалой степени зависли от СССР, вопросы границы на официальном уровне не поднимались. Первым свидетельством наличия расхождений в пограничном вопросе стала так называемая «картографическая агрессия», проводившаяся уже в середине 50-х гг. В «Атласе провинций КНР», который вышел в Пекине летом 1953 г., как китайские территории были обозначены участок на Памире и несколько районов на восточном участке советско-китайской границы, в том числе два тогда никому неизвестных острова у Хабаровска, которые станут ареной боёв 1969 года... С учётом всего вышеизложенного необходимо признать, что выстроенные И.В.Сталиным в период с 1945 по 1953 годы отношения с Китаем является одним из самых ярких примеров наиболее эффективной внешней политики за всю российскую историю. При минимальном использовании вооруженных сил, минимальных человеческих потерях, путем максимального использования врагов и союзников, искусного балансирования на их противоречиях и интересах, СССР сумел добиться впечатляющих успехов планетарного масштаба и заложить основу для реальной попытки достижения мирового лидерства. При этом, что немаловажно, эта политика никогда не была враждебна китайскому народу и в целом способствовала решению стоящих перед Китаем национальных задач освобождения и объединения страны. В то же время объединённый Китай при такой политике Сталина превращался не в опасного большого соседа, а в надежного, хотя и самостоятельного союзника. Отметим, что период 1950-53 гг. очевидно является пиком геополитического влияния России за всю её многовековую историю. Одним из ключевых моментов этого влияния были сложные и тесные советско-китайские отношения, отношения Сталина и Мао. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
http://www.istpravda.ru/digest/14706/
Китай получил советские ядерные технологии путем беззастенчивого шантажа СССР.  Этой осенью в Пекине состоялся грандиозный военный парад. Официальный повод – 70-летие окончания Второй мировой войны. Однако подлинной целью устроителей действа было желание продемонстрировать миру возросшую мощь Китая. Особый фурор произвела межконтинентальная баллистическая ракета 21D «Восточный ветер», о существовании которой до этого дня имелись только предположения. Ни для кого не сек*рет, что своей ядерной мощью Китай во многом обязан Советскому Союзу, однако сегодня мало кто вспоминает о том, что ядерные технологии от СССР властям Китая удалось получить в первую очередь путем шантажа. Об этом – в расследовании «Совершенно секретно». Победа китайских коммунис*тов в 1949-м в гражданской войне и приход Мао Цзэдуна к власти в самой населенной стране мира не обрадовали Сталина. Слишком уж свежи были воспоминания о предательстве Иосипа Броз Тито и потере Югославии. Мао же изначально казался подозрительнее Тито – он никогда не бывал в Москве, не относился к проверенным коминтерновцам, как Берут или Готвальд, и своим политическим восхождением Сталину обязан не был. Соперничество между двумя центрами мирового коммунизма стало неизбежным. Когда китайский вождь прибыл в декабре 1949 года в Москву на празднование 70-летия Сталина, то последний долго с ним не встречался, подсылал к нему то Молотова, то руководителей пониже рангом, чтобы те прощупали настроения Мао Цзэдуна. Сталин долго не мог подготовиться к разговору с человеком, который волей-неволей претендовал на равный с ним статус. В октябре 1950 года Китай вступил в войну в Корее – это было решение Мао, сам Сталин ушел от ответственности за его принятие. Именно тогда будущий Великий кормчий почувствовал свою незаменимость и силу. Китайцы, несмотря на огромные потери, на равных противостояли ядерной сверхдержаве – США, и конфликт закончился вничью. Москва даже поручила Пекину руководство азиатскими компартиями, но Мао понимал, что его страна может считаться великой, а он сам – быть полностью независимым от Кремля только в случае обладания атомной бомбой, применить которую американцы не раз угрожали во время Корейской войны. В эти моменты он остро ощущал собственную зависимость от СССР. Однако Поднебесная к 1950 году была крайне отсталым государством, к тому же, служившим ареной для нескончаемых войн на протяжении сорока лет. В тех условиях создать Китаю атомную бомбу было куда тяжелее, чем Советскому Союзу в 1945-м, когда после Хиросимы Сталин дал указание команде Курчатова всемерно ускорить работу.  [bomba.jpg] ПЕРВОЕ СОГЛАШЕНИЕ Поэтому Мао понимал, что получить сверхоружие он может только от Мос*квы. Кремль же вовсе не горел желанием делиться своими секретами с китайским братом. При жизни Сталина Мао, к тому же втянутый в Корейскую войну, не осмеливался попросить о содействии, ибо Иосиф Виссарионович никогда бы на это не согласился, но после его смерти китайский лидер перешел в активное наступление. Во время первого визита Хрущёва в Китай в 1954-м он прямо сказал, что хотел бы получить атомную бомбу. Никита Сергеевич ответил, что Советский Союз гарантирует всем странам соцлагеря защиту от ядерного нападения, так что китайские товарищи могут не волноваться. Кроме того он подчеркнул, что её производство – крайне дорогостоящий процесс, непосильный для слаборазвитой страны. Но Мао не отступал, и начал тонко шантажировать СССР. С этой целью он развязал зимой 1954–1955 годов кризис в Тайваньском проливе, обстреляв острова, находившиеся под контролем гоминьдановцев, за которых были вынуждены заступаться американцы. Мир оказался перед угрозой ядерной войны, ибо СССР не мог оставить своего союзника одного. Мао же получил повод допекать Москву просьбами о дополнительной помощи, в том числе снова напомнив о содействии в получении атомных технологий и ракет, мол, в таком случае Пекин, не привлекая старшего брата, сможет себя защитить. И в апреле 1956-го было подписано первое соглашение, предусматривавшее помощь со стороны Советского Союза в этой секретной сфере. В том же 1956 году осложнилось внешнеполитическое положение СССР – пос*ле хрущевских разоблачений «культа личности», в Венгрии и в Польше вспыхнули волнения, и Кремлю приходилось опираться на поддержку Пекина, чтобы удержать в своей орбите недовольных. Мао публично одобрил действия Мос*квы, но кулуарно намекнул на то, что за такое надо рассчитаться. В 1957 году приезд Мао на празднование сорокалетия Октябрьской революции также был обставлен требованиями ускорить темпы и увеличить масштабы передачи ракетно-ядерных технологий. Хрущёву деваться было некуда, допустить потерю страны с 600 миллионами населения он не мог, и 15 октября 1957 года было подписано соглашение о передаче КНР соответствующих технологий. Последним крупным шантажом Великого кормчего стал второй Тайваньский кризис 1958 года, когда китайцы вновь неожиданно обстреляли острова в проливе и балансировали на грани войны с США, но в этом случае Советский Союз, пуб*лично заявляя о своей поддержке, тем не менее, разъяренный тем, что Китай не предупредил его о начале активных действий, дал понять Пекину, что ссориться с Вашингтоном, а тем более воевать из-за него, не намерен.  [ракеты.jpg] 12 ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ Впрочем, к тому времени ядерная программа Пекина продвигалась на всех парах. В 1955 году была сформирована «Тройка», отвечающая за создание сверх*бомбы. В нее вошли Бо Ибо – лучший управленец КНР, Чэнь Юнь – финансовый гений компартии, и маршал Не Жунчжэнь, который и возглавил атомный проект Китая. Для выполнения ее решений были соз*даны Второе министерство машиностроения (аналог советского Минсредмаша) и Пятая академия, где разрабатывалась ракетная тематика, своего рода эквивалент НАСА. Бюджет для создания сверхоружия стремительно рос – с 15 млн долларов в 1955 году до 100 млн в следующем. Одновременно, по некоторым подсчетам, в Китай прибыло до десяти тысяч советских специалистов-оборонщиков, и около одиннадцати тысяч инженеров и ученых из Поднебесной было подготовлено в СССР. Такой приток научных кадров сделал возможным организацию ядерных кафедр в Пекине, ранее отсутствовавших. Советскую помощь в атомных вопросах курировал один из руководителей Минсредмаша Аршак Задикян, находившийся в Китае в 1956–1960 годах. Имея поручение Хрущёва помогать китайцам не за страх, а за совесть, он пресекал все попытки что-то утаивать от «китайских товарищей». Так, секреты, добытые советской разведкой в США, Великобритании, Канаде, а также полученные как трофеи в Германии, перетекали в Китай. В известном смысле можно сказать, что достижения Манхэттенского проекта 1942–1945 годов были использованы минимум дважды: первый раз – в СССР, куда их доставила разведка, получавшая сведения сразу от нескольких агентов в проекте, главным из которых был Клаус Фукс, а затем – в Китае, куда они попали в результате политического шантажа. Открывшееся окно возможностей в 1956–1957 годах китайцы использовали по полной программе – только ядерной физике и смежным наукам учиться в СССР и страны Восточной Европы отправилось более семи с половиной тысяч студентов. Ввиду низкой грамотности в Китае на учебу первоначально отправлялись чуть ли не все желающие, но все равно людей не хватало. Поэтому по распоряжению маршала те студенты, которые уехали в Советский Союз и страны соцлагеря изучать гуманитарные науки, в принудительном порядке переводились на технические отделения институтов. Также ученых и инженеров с «гражданки» откомандировали в армейские институты. Но советская помощь продолжалась недолго. Уже в 1959 году в связи с переговорами с Западом о запрещении испытаний ядерного оружия СССР объявил Китаю, что не сможет оказывать обещанное содействие в атомной программе. Переговоры были лишь формальным поводом. К тому времени раскол между Москвой и Пекином стал очевидным фактом, идео*логические и политические разногласия оказались непреодолимыми. Хрущёв, дополнительно взбешенный отказом Китая предоставить морские базы для советских подлодок с баллистическими ракетами на борту, равно как и разместить у себя станции дальней связи с кораблями, приказал отозвать всех советских специалистов – 12 тысяч человек, в том числе атомщиков, со всеми чертежами. Последний из них покинул КНР 13 августа 1960 года. Мао Цзэдун использовал предложение Хрущёва на все сто. Сперва он заявил, что Китай больше не колония, чтобы на его территории помещались чужие базы, и что подобные замыслы унижают национальную гордость китайцев и идут вразрез с принципами интернационализма. Затем он потребовал, чтобы СССР оказал помощь в создании китайского подводного флота. Хрущёв был ошеломлен и мог лишь оправдываться, что он не имел в виду ничего, способного унизить братский Китай. Но оказать содействие в строительстве подводных лодок он отказался категорически. Хрущёв с тоской осознавал, что Китай неудержимо дрейфует в сторону от Советского Союза. «Потерю» Китая ему в 1964-м поставят в вину, снимая с должности.  [китайцы] КИТАЙСКИЕ САХАРОВЫ Одновременно с шантажом СССР и получением от него максимально возможной помощи, атомная «Тройка» сделала ставку на привлечение в страну специалистов-соотечественников из-за рубежа. В самом Китае необходимых физиков, химиков, математиков, конструкторов фактически не имелось, тогда в США и Европе сформировалась значительная научная колония – выходцев из него. И «китайский Курчатов» – Цянь Саньцян, и «китайский Королёв» – Цянь Сюэсэнь, получили образование на Западе. Цянь Саньцян был учеником знаменитых французских физиков – Ирен и Фредерика Жолио-Кюри, по политическим убеждениям коммунистов, которые через него передали секретные сведения китайским «товарищам», желая помочь своим единомышленникам. Цянь вернулся на родину еще в 1948-м и с восторгом встретил победу коммунистов. Уже в 1949 году он поехал в Париж с 50 тыс. долларов – огромной суммой по тем временам для нищей страны, которую ему выделило руководство Компартии с целью закупки научного оборудования и побуждения китайских студентов к возвращению домой. Кстати, в 1953-м Цянь посетил Москву, где хотел наладить контакты для получения нужной информации, но поскольку это было еще до подписания соглашения о сотрудничестве, президент Академии наук Несмеянов предупредил органы, что китайского гостя стоит ознакомить «лишь с некоторыми научными работами общего характера без малейшего введения в курс проблем, входящих в тематику Первого главного управления». Но поездка в Париж был лишь его личной инициативой. Не Жунчжэнь поставил процесс на широкую ногу. Он собрал на совещание в МИДе дипломатов и объявил им, что нет цели более важной сегодня, чем возвращение на родину технических специалистов и ученых, и что именно это должно стать главной задачей китайских посольств. Самой «жирной» добычей стал Цянь Сюэ*сэнь. Он родился в 1911 году в семье чиновника, получил современное образование и в 1935-м отправился в США совершенствоваться как инженер. Там он поочередно учился в Массачусетском технологическом институте, а затем в Калифорнийском технологическом институте, где за выдающиеся способности был оставлен преподавать, будучи любимым учеником Теодора фон Кармана, одного из теоретиков космонавтики. В Калтехе Цянь стал одним из основателей Лаборатории реактивного движения – в будущем ведущего центра НАСА по разработке космической техники. Во время войны Цянь служил в американской армии в чине полковника и занимался изучением немецкой ракетной техники. Ему пришлось допрашивать Вернера фон Брауна, о чем впоследствии журналисты шутили, что отец немецкой ракетной программы отчитывался перед отцом китайского ракетостроения. После войны Цянь вернулся к работе в Лаборатории реактивного движения, которая в то время активно создавала первую американскую тактическую ракету «Корпорал». Но он не знал, что ФБР давно уже следит за ним, подозревая его в симпатиях к коммунистам. Цянь действительно, как многие интеллектуалы того времени, сочувствовал радикальным левым идеям и входил в кружок младшего брата Роберта Оппенгеймера – Франка, в котором обсуждалась коммунистическая теория. В 1950 году Цянь Сюэсэнь был отстранен от всех сек*ретных работ и предстал перед следователями. Его первым желанием было уехать в Китай. Но американское правительство воспретило ему этот шаг. Он был посажен под домашний арест и находился под ним до 1955 года. Судьба Сюэсэня стала предметом переговоров, которые неофициально велись между Китаем и США, на тот момент не имевших дипломатических отношений. Уже на самых первых встречах в Женеве в 1954-м был поставлен вопрос о возможности Цяню вернуться домой. На руках у китайцев имелись козыри – несколько десятков американских граждан, задержанных в КНР. Их отпустили только в обмен на свободу Цяня. Всего в 1954–1955 годах было разрешено эмигрировать из США в Китай более чем сотне специалистов – физикам-ядерщикам и инженерам-ракетостроителям. Среди них были и Дэн Цзясянь, вторая по значимости фигура после Цяня Саньцяна в китайской ядерной программе, создатель водородной бомбы, своего рода «китайский Сахаров», а также такие выдающиеся ученые, как Жэнь Синмин, профессор из Университета Буффало, Ду Шоу, Ван Сичжи, Чэнь Гайцзя. Кто-то из них искренне сочувствовал китайской революции и верил в то, что коммунис*ты строят в стране лучшее будущее. С ними агенты китайской разведки вели деликатную работу по обработке сознания, подсовывая разного рода пропагандистскую литературу, убеждающую в том, какой прогресс происходит на родине. Мысль о том, что прежде отсталый Китай, эксплуатируемый Западом, ныне становится мощной державой, действовала на многих ошеломляюще, подстегивая патриотизм. Тот же Цянь Сюэсэнь говорил американцам, что не хотел бы конструировать ракеты, которые могут обрушиться на его собратьев. Кого-то удалось заманить обещаниями больших денег и возможностью профессиональной самореализации.  [испытания.jpg] В ПОМОЩИ ОТКАЗАНО Хаос «Большого скачка» и «Культурной революции» не влиял на ход ракетно-ядерной программы. Если в это время людей, получивших образование за рубежом – не важно в США или в СССР, – громили как оппортунистов и лиц идущих по капиталистическому пути, то верхушка ученых и конструкторов, работавших над атомной бомбой и баллистическими ракетами, поч*ти целиком состояла из людей «оттуда» и пребывала в полной безопасности. Сам Мао Цзэдун на первой встрече членов Политбюро с ядерщиками в 1955 году сказал: «Сегодня мы – ваши ученики». После внезапного отзыва советских специалистов и полного прекращения всякой помощи от Москвы китайская ядерная программа оказалась в серьезном кризисе. Верхушка Компартии, собравшаяся на совещание, долго дебатировала – как поступать в данной ситуации? Раздавались голоса, что необходимо отложить атомную бомбу «на потом» – ведь страну постиг великий голод, жертвами которого стали от 30 до 50 миллионов человек. Но Мао сказал: «Нам повезло, что русские нас бросили. В противном случае мы бы никогда не смогли расплатиться с ними за их помощь. Будем делать своими силами и как можно быстрее!» По оценке историков Юн Чжан и Джона Холлидея, в результате этого решения погибло людей в 100 раз больше, чем в результате взрывов в Хиросиме и Нагасаки, ибо ресурсы, способные спасти жизнь голодавшим, направлялись на создание ядерного оружия. Так, опираясь одновременно на советскую помощь и на содействие соотечественников, привлеченных из-за рубежа, китайская ядерная (она, как в США и в СССР, предшествовала ракетной) программа развивалась семимильными шагами. Уже в 1958 году был запущен первый реактор. В том же году 40 тыс. строительных войск были посланы в пустыню Такла-Макан в районе озера Лоб-Нор, где они начали обустраивать полигон для атомных испытаний. А войска, выводимые из Кореи, отправились на возведение ракетного полигона в пустыню Гоби, на котором в 1960-м Китай испытал первую баллистическую ракету. К осени 1964-го года у атомщиков все было готово. Они только ждали команды из Пекина, чтобы провести первое испытание. Но там в руководстве опять начались жаркие дискуссии. Разведка из США докладывала, что американцы готовы нанести удар по Китаю, в случае если они зафиксируют подготовку к ядерному взрыву, либо сразу после него. После того, как это возражение было снято, начались споры о точной дате. 1 октября – 15-я годовщина провозглашения КНР – было отвергнуто, так как Мао опасался того, что если испытания закончатся неудачей, это произведет неблагоприятное впечатление на всех причастных к разработке. В итоге ядерный гриб вознесся над пустыней Такла-Макан 16 октября – через два дня после смещения Никиты Сергеевича. Ирония истории заключалась в том, что кодовое название операции было «Номер 596» – от месяца июня 1959 года, когда Хрущёв объявил об окончании советской помощи. Всего лишь через три года взорвалась китайская водородная бомба, а в 1970-м с космодрома в пустыне Гоби был запущен искусственный спутник Земли, передавший в эфир мелодию «Восток алеет». ПОДОЗРЕНИЯ СТАЛИНА ОКАЗАЛИСЬ ОБОСНОВАННЫМИ По оценкам историка Шэн Жихуа, на создание атомной бомбы Китай потратил 3,6 млрд долларов против 11,6 млрд, затраченных СССР. Такая экономия стала возможной только благодаря двум факторам – всемерному использованию советской помощи на протяжении четырех лет (1956–1960) и масштабной кампании по возвращению на родину китайских специалистов. А подозрения Сталина оказались обоснованными. Мао недолго оставался лояльным советским союзником и, обретя ядерное оружие, начал играть в собственную геополитическую игру. Пришедшему к власти Брежневу пришлось иметь дело с Китаем, невероятно уверенным в своих силах. Вместо одного стратегического противника – США, у Советского Союза их теперь было двое. События на острове Даманский стали возможны только благодаря обладанию Поднебес*ной ядерным оружием. СССР пришлось срочно создавать мощную военную группировку и инфраструктуру в Забайкалье и на Дальнем Востоке, чтобы противостоять новому потенциальному врагу. Об этом часто забывается, но гонка вооружений, погубившая Советский Союз, велась не только с Западом, но и с Востоком, а именно – с Китаем. Так что те, кто принимал решение о передаче сверхсекретных технологий Пекину в 1950-х годах, косвенным образом оказались причастными к падению сверхдержавы. Но последствия существования в Китае ядерного оружия на этом не закончились. После китайско-индийского пограничного конфликта в 1962 году между двумя странами воцарились крайне враждебные отношения. И после того как стало известно о ядерном испытании в Китае, Дели не мог остаться безоружным перед лицом врага и принял решение о создании оружия массового поражения, что, в свою очередь, вовлекло Пакистан в ядерную гонку, чей президент Зульфикар Али Бхутто сказал: «Будем есть траву, но атомную бомбу получим». И в этом случае не обошлось без китайской помощи, ибо Пекин полагался на Исламабад в своем стратегическом противостоянии с Индией. Однако это уже совсем другая история… Максим Артемьев ("Совершенно Секретно") 346 |
|
#7
|
||||
|
||||
|
http://www.pravda.ru/world/europe/eu...0-Mussolini-0/
03 авг 2013 в 16:00 Мир » Европа » Евросоюз  29 июля исполнилось 130 лет со дня рождения Бенито Муссолини — "отца фашизма". Город Традате (оплот сепаратисткой партии "Северная Лига") в провинции Варезе, пробудился в воскресение обклеенный плакатами Auguri Duce! ("Поздравляем Дуче"). Плакаты подписаны таинственной группой "Смелая Варезе". Несмотря на протесты властей и прессы, они регулярно появляются в городе в день рождения дуче уже три года. И это не случайно. В этом году правительство той же провинции отклонило предложение местных законодателей от Демократической партии отозвать почетное гражданство предоставленное Муссолини в 1924 году. Губернатор Аттилио Фонтана ("Северная Лига") назвал подобные попытки "манипуляциями", и сказал, что "правительство не может отозвать гражданство умершего человека, которое было дано за определенные заслуги", пишет портал Ilfattoquotidiano. В этот же день в родном городе Муссолини Предаппио (провинция Форли) по главной улице в парадном строю прошли одетые в черные рубашки несколько сотен человек, они почтили память дуче около кладбища, где он похоронен. Мероприятие проходит каждый год и в итальянской прессе называется "ностальгическим". Бенито Муссолини родился 29 июля 1883 года в семье кузнеца. Александр Муссолини был анархистом и назвал сына в честь Бенито Хуареса — революционера и экс-президента. Мать — учительница начальной школы, была человеком верующим и крестила сына. В 1901 Бенито закончил среднюю школу и вступил в Итальянскую социалистическую партию. В 1902 переехал жить в Швейцарию, и поэтому на родине был признан дезертиром. Через два года после амнистии, он вернулся в Италию и зарабатывал себе на жизнь в качестве журналиста и учителя начальной школы. В то же время вел активную общественную жизнь. В 1912 году стал главой партийной газеты "Аванти". Прорыв в политической карьере Бенито Муссолини состоялась 18 октября 1914 года. Именно тогда, к удивлению товарищей по партии и коллег по журналистике, он опубликовал статью, оправдывая участие Италии в войне. За это был исключен из рядов социалистов. В марте 1919 г. Муссолини основал Fashio di Combattimento ("Союз Борьбы"), откуда затем и пошло название "фашизм". В 1921 году Союз был преобразован в "Национальную фашистскую партию". Партию привела к власти крупная буржуазия, землевладельцы и представители либеральных партий в парламенте, не знающие, что делать с протестным рабочим движением. 28 октября 1922 года Муссолини со своими сторонниками, построенными в многотысячные колонны, идет в поход на Рим. Парламент Италии большинством голосов передает ему власть и назначает премьер-министром. Италия становится фашистским государством. 1926 год стал для Муссолини "наполеоновским". Он уничтожил остатки оппозиции, запретил все политические партии, парламент стал марионеточным. Демократические свободы были отменены, запрещены свободные профсоюзы, против антифашистских деятелей стал применяться открытый террор. Муссолини назвал свой режим тоталитарным. Старая мораль была объявлена буржуазным пережитком, а новая заключалась в полном подчинении интересов личности государству. Приход в 1933 году к власти в Германии Адольфа Гитлера дал Муссолини достойного союзника. Уверенный в поддержке со стороны гитлеровской Германии и нейтралитете Франции, Муссолини захватил Эфиопию, что сопровождалось расправой над населением страны. Затем в союзе с Гитлером он организовал военно-фашистский мятеж против республиканского строя в Испании, в результате в стране был установлен режим генерала Франко.  Муссолини являлся надежным союзником Германии во Второй мировой войне. Подражая гитлеровской национальной политике, он издает целую серию антисемитских законов и, с 1943 года, начинает массовые расстрелы евреев. Но с того же года для него наступают сложные времена. Успехи Красной Армии активизируют антифашистское движение в самой Италии. Недовольные есть даже среди ближнего окружения дуче. Открытие второго фронта в июле 1943 года предопределил падение режима Муссолини. 3 сентября 1943 года режим капитулировал. Король Италии Виктор Эммануил, в течение почти двух десятилетий не проявлявший себя в политической жизни страны, приказал своим карателям арестовать дуче. Но Муссолини был освобожден немецкими десантниками Отто Скорцени, привезен в Германию и отправлен на север Италии руководить наспех созданной для прикрытия немецких коммуникаций Итальянской социальной республикой. Там он создал правительство в изгнании. 28-29 сентября эта республика была признана Германией, Японией, Румынией, Болгарией, Хорватией и Словенией. 4 июня 1944 года американцы вступили в Рим, в августе — во Флоренцию и двинулись на север Италии. Начали свое наступление и партизаны итальянского Сопротивления. 27 апреля 1945 года в местечке Донго на севере Италии небольшой отряд партизан остановил отступавшую немецкую часть. Во время обыска одного из грузовиков в нем был обнаружен Бенито Муссолини. В обстановке полной секретности его повезли в Рим, но по пути передумали и расстреляли. После смерти тело Муссолини в знак позора было подвешено вверх ногами. С тех пор имя Бенито Муссолини упоминается не иначе как основателя мирового фашизма со всеми вытекающими характеристиками. Тем не менее, надо отдать ему должное, дуче в Италии создал социально ориентированное государство, которое он называл "корпоративным". В стране были введены восьмичасовой рабочий день и 48-часовая рабочая неделя, обязательные санитарные нормы на предприятиях и страхование рабочих, пособия (по безработице, уходу за детьми и болезни), запрещен ночной труд для женщин и несовершеннолетних, открыты летние лагеря для детей из малообеспеченных семей. Он создал систему "соцсоревнований", а также организацию "Дополаворо" ("После работы"), призванную упорядочить свободное время граждан "корпоративного государства", включавшую общеобразовательные программы, спортивные секции и кружки "художественной самодеятельности", систему социальной помощи и "народного" здравоохранения. Итальянский журналист Сльваторе Тодаро (Salvatore Todaro) написал по случаю юбилея воображаемое интервью с дуче, как с современником: — Я не хочу ворошить, прошлое меня не интересует. Я просто хочу, чтобы выяснить, что у вас было на уме, на сердце. Почему диктатура? — Журналист… вы посмотрите вокруг и вы ответите на свой вопрос. Разве это не то, что вы переживаете сейчас? Государство, которое не может преодолеть кризис и налагает налоги на налоги. Государство, которое не защищает вас, но преследует. Система банков, которая регулируется плутократической демократий, которую мы осудили семьдесят лет назад! Разве это не диктатура? С вашими чиновниками, которые потеряли достоинство, и вашими правителями, действующими на основании политического импульса. Эта самая настоящая диктатура! Я всегда действовал в интересах итальянского народа, поверьте мне. Моя внутренняя политика была, на самом деле, очень старомодным способом сохранить наше богатство… противоположное евро, который вы выбрали: дилетанты! Я думал, что нет сильных людей без сильной армии, я думал, что безопасность — это бесценный актив для каждого гражданина: в свое время люди спали с открытыми дверями? Я построил много дорог, я дал людям работу… Единственное, о чем я жалею — это о союзе с Гитлером. |
 |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
|
|