
 |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/6/23/3957/
Немецкие оккупанты ограбили и сожгли все дома д. Аблинга (Клайпедский р-н Литвы), согнали ее жителей и соседней д. Жвагиняй к яме и расстреляли их. Погибли 42 чел. из 30 семей. Трагедия Аблинги — одна из первых в ходе Отечественной войны. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/6/23/3958/
23 июня 6-й и 11-й механизированные корпуса и соединения 6-го кавалерийского корпуса нанесли контрудар во фланг прорвавшейся группировки противника из сувалковского выступа. В этот день контратаковал лишь 11-й механизированный корпус. 6-й механизированный корпус, обороняясь в составе 10-й армии на реке Нарев, не мог своевременно сосредоточиться для контрудара. Части 6-го кавалерийского корпуса, находившиеся под непрерывными ударами авиации противника, неся большие потери, задержались на марше. 23 июня части советского 14-го мехкорпуса и 28-го стрелкового корпуса 4-й армии контратаковали немецкие войска в районе Бреста, но были отброшены. 2-я танковая группа продолжила наступление на Барановичи и на Пинском направлении и заняла Пружаны, Ружаны и Кобрин. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/6/23/3959/
В течение дня противник стремился развить наступление по всему фронту от Балтийского до Чёрного моря, направляя главные свои усилия на Шяуляйском, Каунасском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимир-Волынском, Рава-Русском и Бродском направлениях, но успеха не имел. Все атаки противника на Владимир-Волынском и Бродском направлениях были отбиты с большими для него потерями. На Шяуляйском и Рава-Русском направлениях противник, вклинившийся с утра в нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграницу; при этом на Шяуляйском направлении нашим артогнём уничтожено 300 танков противника. На Белостокском и Брестском направлениях после ожесточённых боёв противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять Кольно, Ломжу и Брест… |
|
#4
|
||||
|
||||
|
http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/6/23/210/
23 июня 4-я танковая группа продолжила наступление. 8-я армия Северо-Западного фронта была вынуждена отходить на северо-восток, а 11-я армия — на юго-запад. На Шяуляйском направлении 12-й механизированный корпус нанес контрудар во фланг немецкой группировки и задержал части 41-го корпуса на три дня. 3-я танковая группа Гота на стыке Северо-западного и Западного фронтов пробила брешь шириной до 130 км и к вечеру продвинулась в глубь советской территории до 120 км. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Последний раз редактировалось Chugunka; 12.07.2017 в 00:39. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
08:51, 8 августа 2015 Почему за несколько дней до войны в Западном округе была разоружена авиация  Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости В 1957 году были реабилитированы командующий Западного особого военного округа генерал армии Дмитрий Павлов, командующий 4-й армией этого округа генерал-майор Александр Коробков и другие руководители округа, 22 июля 1941 года расстрелянные за преступную халатность и развал фронта. Однако, чем больше открывается документов, тем явственней представляется, что реабилитаторы выполняли политический заказ. Неразосланные приказы Генштаба Как уже говорилось в статье «За десять дней до войны», о намерениях Гитлера начать войну летом 1941 года в Кремле было прекрасно известно. Наши войска стали приводить в боевую готовность как минимум за две недели до нападения, а 18 июня они начали выдвигаться в районы сосредоточения, взяв с собой «только необходимое для жизни и боя» (из приказа по 12-му механизированному корпусу Прибалтийского военного округа). В развернутом на территории Белоруссии Западном округе (ЗапОВО) обстановка была подчеркнуто иной. Будущий маршал авиации Александр Голованов незадолго до войны был назначен командиром авиаполка, базировавшегося в ЗапОВО и отправился представляться командующему округом. По ходу беседы тот решил позвонить в Москву, Сталину. «Через несколько минут он уже разговаривал со Сталиным. По его ответам я понял, что Сталин задает встречные вопросы. — Нет, товарищ Сталин, это неправда! Я только что вернулся с оборонительных рубежей. Никакого сосредоточения немецких войск на границе нет, а моя разведка работает хорошо. Я еще раз проверю, но считаю это просто провокацией. Он положил трубку. — Не в духе хозяин. Какая-то сволочь пытается ему доказать, что немцы сосредоточивают войска на нашей границе». Между тем и Генштаб, и штаб округа были буквально завалены сведениями о том, что германские войска уже не только сосредотачиваются, но и развертываются. Вот и Голованов отмечает: «Как мог Павлов, имея в своих руках разведку и предупреждения из Москвы, находиться в приятном заблуждении, остается тайной...».  Политзанятия в Красной Армии, май 1941 года Фото: ТАСС На судебном процессе 22 июля начальник связи Западного фронта Андрей Григорьев показывал: «Война застала Западный Особый военный округ врасплох. Мирное настроение, царившее все время в штабе, безусловно, передавалось и в войска. Штабы армий находились на зимних квартирах и были разгромлены, и, наконец, часть войск (Брестский гарнизон) подвергалась бомбардировке на своих зимних квартирах». Более того, штаб округа откровенно саботировал приказы Генштаба. Продолжим слушать Григорьева: «Выезжая из Минска, мне командир полка связи доложил, что отдел химвойск не разрешил ему взять боевые противогазы из НЗ. Артотдел округа не разрешил ему взять патроны из НЗ, и полк имеет только караульную норму по 15 патронов на бойца, а обозно-вещевой отдел не разрешил взять из НЗ полевые кухни. Таким образом, даже днем 18 июня довольствующие отделы штаба не были ориентированы, что война близка… И после телеграммы начальника Генерального штаба от 18 июня войска не были приведены в боевую готовность». По какой, интересно, причине командующий округом может не выполнять прямые приказы Генштаба? Знал он, что будет война? Знал, как и все генералы РККА. Был клинически бездарен? Возможно, но какой нужен талант, чтобы получать директивы да рассылать дальше в войска? Рутина, любой капитан справится. Тем не менее сделано это не было. Генеральское вранье о Брестской крепости Интригующая разборка произошла на суде между Павловым и командующим 4-й армией Коробковым. Перед самой войной, согласно директиве Генштаба, все войска, стоявшие непосредственно на границе, следовало отвести на несколько километров назад, на рубежи подготовленных укреплений. Расквартированные в Брестской крепости части 4-й армии, несмотря на все директивы Генштаба, так и не были выведены из крепости, где их и застало начало войны. Рассказы и фильмы о солдатиках, накрытых огнем в казармах, — это как раз про 4-ю армию. На суде ответственные лица перепихивали вину друг на друга. Павлов утверждал, что отдавал приказ о выводе армии, но не проверил исполнение, Коробков — что никаких приказов он не получал. Кто-то из них явно врал — но кто?  Александр Коробков Лишь спустя много лет нашелся свидетель — генерал-майор авиации, а тогда полковник Белов, командир 10-й смешанной авиадивизии. «20 июня я получил телеграмму начальника штаба ВВС округа полковника С.А. Худякова с приказом командующего ВВС округа: "Привести части в боевую готовность. Отпуск командному составу запретить. Находящихся в отпусках отозвать". О приказе… я доложил командующему 4-й армии генералу Коробкову, который мне ответил: — Я такого приказа не имею. В этот же день я зашел к члену Военного Совета дивизионному комиссару Шлыкову. — Товарищ комиссар, получен приказ от командующего ВВС округа — привести части в боевую готовность. Я прошу вас настоять перед округом отправить семьи комсостава. — Мы писали в округ, чтобы разрешили вывести из Бреста одну дивизию, некоторые склады и госпиталь. Нам ответили: "Разрешаем перевести лишь часть госпиталя". Так что ставить этот вопрос бесполезно». Получается, врал на суде все же Павлов. И это лишь маленький кусочек тех странностей, что творились в округах перед войной. Ослепшая артиллерия Что может помешать немцам проломить войска прикрытия и выйти на оперативный простор? В первую очередь, артиллерия и авиация. Перед самой войной с этими двумя родами войск в приграничных округах происходили очень любопытные вещи. 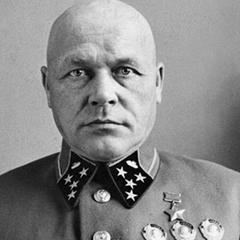 Дмитрий Павлов Фото: Wikipedia Будущий маршал Константин Рокоссовский, накануне войны командовавший 9-м мехкорпусом Киевского особого военного округа, вспоминал, что за несколько дней до немецкого нападения из штаба округа пришло распоряжение — выслать артиллерию на полигоны, которые находились в приграничной зоне. Рокоссовский, понимая, что вот-вот начнется война, распоряжение не выполнил. Но ведь не все командующие были так непослушны. А вот что учудили в Прибалтийском округе. В полк тяжелой артиллерии 16-го стрелкового корпуса 11-й армии то ли 19-го, то ли 20 июня прибыла комиссия штаба округа. Возглавлявший ее генерал приказал снять с пушек прицелы и сдать их для проверки в окружную мастерскую в Риге, за 300 километров от расположения части, и разрешил комсоставу в выходной съездить в Каунас, к семьям. Правда, командир полка после отъезда комиссии и не подумал выполнять эти распоряжения. А вот в гаубичном артполку 75-й дивизии 4-й армии ЗапОВО прокатило — 19 июня были увезены в Минск на поверку все оптические приборы, вплоть до стереотруб. Естественно, к 22 июня их назад не вернули. Такое ни на ошибку, ни на разгильдяйство уже не спишешь, это честный и откровенный саботаж. Начштаба ПрибОВО генерал Клёнов был арестован в начале июля и расстрелян осенью 1941 года, начштаба ЗапОВО Климовских осужден одновременно с командующим округом. Но самое интересное то, что один и тот же прием использовался в разных округах, так что это, возможно, и не местная инициатива. Интереснейшая история случилась с ПВО все того же Западного округа. Генерал-лейтенант Стрельбицкий, который в 1941 году был командиром 8-й противотанковой бригады, вспоминал, что немецкие летчики в небе над Лидой вели себя странно. Они бомбили, как на учебе, совершенно не опасаясь зенитного огня — а зенитки молчали. Полковнику Стрельбицкому командир дивизиона ответил, что накануне ему пришел приказ: «На провокацию не поддаваться, огонь по самолетам не открывать». Зенитчики начали стрелять, лишь когда полковник явился к ним с пистолетом в руке. Тут же были подбиты четыре машины, и вот теперь самое интересное. Три пленных немецких летчика заявили: они знали о запрете для ПВО открывать огонь. Можно, конечно, объяснить данный приказ тем, что в Кремле перестраховывались, предпочитая снег студить, лишь бы не поддаться на провокацию. А частям люфтваффе эту информацию тоже из Кремля сливали? Или все же кто запретил, тот и немцев известил?  Сбор красноармейцев в связи с начавшейся войной, 22 июня 1941 года Фото: Василий Савранский / РИА Новости Разоруженная авиация Обратимся теперь к многострадальным нашим ВВС. Любопытные вещи рассказывал уже в наше время в интервью газете «Красная Звезда» генерал-лейтенант Сергей Долгушин, бывший во время войны летчиком-истребителем. Их полк стоял в ЗапОВО, аэродром находился, считай, на самой границе, в пяти километрах от нее. «За зиму сорок первого года мы освоили высотные полеты, много стреляли и по конусу, и по земле, начали летать ночью. Десятого мая наш полк перебросили из Лиды на аэродром Новый Двор, что чуть западнее Гродно. На севере граница с немцами была в пятнадцати километрах. Как только мы приземлились, над летным полем на малой высоте пронесся фашистский "мессер". Нахально так, даже крыльями покачал. В ясную погоду с высоты двух тысяч метров мы видели немецкий аэродром, забитый разными машинами. Составили схему, передали в штаб. А двадцать первого июня, в шесть вечера, закончив полеты, получили приказ: снять с самолетов пушки, пулеметы, ящики с боеприпасом и хранить все это на складе. — Но это же... Даже говорить страшно... Похоже на измену! — Все тогда недоумевали, пытались узнать, в чем дело, но нам разъяснили: это приказ командующего войсками округа, а приказы в армии не обсуждаются». Долгушину сослались на Павлова, но это вовсе не факт. Приказы авиаполкам должен был отдавать командующий ВВС округа, генерал-майор Копец. Вообще ситуация у летунов складывалась интересная. По словам Долгушина, в предвоенные дни будто по заказу начался ремонт базового аэродрома в городе Лида, не были подготовлены запасные площадки, было уменьшено число мотористов и оружейников до одного на звено. В результате летчикам пришлось самолично устанавливать в крыльях истребителей снятые пушки, и хотя тревогу в полку объявили в 02:30 22 июня, взлетать машины начали только в 06:30-07:00, а до того немцы пролетали над аэродромом на бомбежки без какого-либо противодействия. Есть и еще свидетельства подобного рода: как накануне войны с самолетов снимали вооружение, сливали горючее. О поступившем в ночь на 22 июня приказе перевести авиацию на полевые аэродромы не вспоминает вообще никто. Да и как это можно сделать со слитым горючим и снятым вооружением?  Авиация дальнего действия. На взлетной полосе Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости Методы были разными, цель одна — не дать авиачастям воевать. В одних полках снимали вооружение, в других объявляли выходной, как было в 13-м скоростном бомбардировочном авиаполку. «...На воскресенье 22 июня в 13-м авиаполку объявили выходной. Все обрадовались: три месяца не отдыхали! Особенно напряженными были последние два дня, когда по приказу из авиадивизии полк занимался двухсотчасовыми регламентными работами, то есть, проще говоря, летчики и техники разбирали самолеты на составные части, чистили, регулировали их, смазывали и снова собирали. Трудились от зари до зари. Вечером в субботу, оставив за старшего начальника оператора штаба капитана Власова командование авиаполка, многие летчики и техники уехали к семьям в Россь, а оставшиеся в лагере с наступлением темноты отправились на площадку импровизированного клуба смотреть новый звуковой художественный фильм "Музыкальная история". Весь авиагарнизон остался на попечении внутренней службы, которую возглавил дежурный по лагерному сбору младший лейтенант Усенко». Похожие вещи происходили в разных округах. Причем если штаб округа мог своей властью отменить боевую готовность или, скажем, распустить личный состав в увольнение, то обкорнать технический состав он не имел полномочий. Задним числом в обезоруживании авиации обвиняют наркома обороны Семена Тимошенко — но едва ли маршал стал бы по своей инициативе лезть в летные дела, и нет ни одного подтверждения, что он это делал. А если бы и полез, то летуны из ВВС в два счета доказали бы ему, что так делать нельзя, до Сталина бы дошли, если надо. Между тем никаких следов конфликтов по этому вопросу между наркомом и авиаторами не зафиксировано. Значит, скорее всего, приказ отдавал кто-то, кому они доверяли, например из командования ВВС. И это уже совсем иной расклад получается. Разгильдяйство или измена? В журнале «Военно-исторический архив» в 2010 году вышла статья Н. Качука, посвященная генералу Копецу. Статья выдержана в духе плача о невинно репрессированных военачальниках: «Страшно. Вермахт рвется к Москве, а кремлевская-лубянская опричнина открывает "второй фронт"...» И вдруг… «В записках Нины Павловны Копец меня буквально обжигают слова, сказанные ей летчиком-инспектором майором Ф. Олейниковым, давним другом и помощником ее мужа: "В самый канун войны из Москвы пришел приказ подготовить самолеты к какому-то парадному смотру, то есть снять временно вооружение, и поэтому в момент фашистского нападения они оказались разоруженными. Возможно, это одна из причин гибели Ивана". Что за дьявольский сценарий разыгрывался в ВВС накануне войны и кто им дирижировал из Москвы?» Кто дирижировал? А кто мог дирижировать? Только, и исключительно, командование ВВС. Ни Сталин, ни нарком, ни кто-либо еще не имел возможности отдавать приказы летчикам, минуя летное начальство. Вот и сходятся, наконец, концы с концами в так называемом «деле авиаторов» — беспрецедентном погроме, учиненном Особым отделом НКВД среди летной верхушки. Вот лишь один, самый известный, так называемый «список 25» — в нем имена тех, кто был расстрелян 28 октября 1941 года в Куйбышеве. Так вот: из 25 членов данного списка не менее трети так или иначе имеет отношение к ВВС, в том числе: Генерал-полковник Локтионов — с ноября 1937-го по ноябрь 1939-го начальник ВВС РККА, затем, до июля 1940 года — заместитель наркома по авиации. Генерал-лейтенант Смушкевич — сменил Локтионова на посту начальника ВВС РККА, в августе 1940-го стал генерал-инспектором ВВС, а в декабре — помощником начальника Генштаба РККА по авиации. Генерал-лейтенант Рычагов — преемник Смушкевича на посту начальника ВВС РККА, а с февраля по апрель еще и заместитель наркома по авиации.  Члены Военного Совета Западного фронта (слева направо) - дивизионный комиссар Д..А.Лестев, генерал-майор К.К.Рокоссовский, батальонный комиссар Гуревич и полковник М.С.Малинин обсуждают план предстоящей операции, август 1941 года Фото: ТАСС К ним можно прибавить генерал-лейтенанта Птухина, командующего ВВС КОВО, генерал-майора Ионова, командующего ВВС ПрибОВО, генерал-майора Таюрского, заместителя командующего ВВС ЗапОВО и, несомненно, командующего ВВС этого округа, генерал-майора Копеца, если бы тот не застрелился. Были и еще арестованные и расстрелянные генералы авиации — погром в верхушке ВВС устроили жесточайший. Все эти люди обвинялись в антисоветском заговоре и, естественно, давно реабилитированы. Но перед тем как верить этой реабилитации, давайте все же вспомним снятые с истребителей пушки и внезапно подаренные личному составу выходные. Никто, кроме этих людей, не мог составить и воплотить «дьявольский сценарий из Москвы» — просто потому, что все эти приказы никак не прошли бы мимо их глаз. В заговоре обвинялся и генерал Павлов. В постановлении на арест говорится, что он входил в число участников «заговора Тухачевского», был тесно связан с расстрелянным маршалом Уборевичем, приводятся соответствующие показания. (Почему трибунал не стал разбираться с этими обвинениями и не внес их в приговор — понятно: только криков о генеральской измене летом 1941 года и не хватало.) Можно считать все это фальсификацией — а с подставленными под удар войсками округа как быть? А то, что их всех потом реабилитировали, — совсем другая история. Как это происходило, вспоминал сам Хрущев. «Когда выявились злоупотребления властью со стороны Сталина и началась реабилитация невинно казненных и посаженных в тюрьмы, военные подняли вопрос о реабилитации Павлова и других генералов, которые были осуждены и казнены за развал фронта в первые дни войны. Это предложение было принято, и они были реабилитированы». Последний раз редактировалось Chugunka; 13.07.2017 в 03:23. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
http://ru-cprf.livejournal.com/4263901.html
Name: Сообщество коммунистической партии (КПРФ) Июнь 2017  Текст выступления: Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление: Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что Германское правительство решило выступить с войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы. В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней минуты Германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной. По поручению Правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже свершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы Советской авиации с честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом, и нанесут сокрушительный удар агрессору. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В своё время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, ещё теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами Советская Россия - газета Официальный сайт газеты Правда Здесь список ссылок на блоги (как и было намечено): http://marossiya.livejournal.com/ http://net-livejournal.livejournal.com/ http://agranovsky.livejournal.com/ http://12red.livejournal.com/ http://sergej-a.livejournal.com/ http://dictator-of-rus.livejournal.com/ http://revolushion1917.livejournal.com/ http://gptu-navsegda.livejournal.com/ http://jimmy-zedler.livejournal.com/ http://yaros-86.livejournal.com/ http://sulaymonov.livejournal.com/ с 24.08.2008 http://kir-voroshilov.livejournal.com/ http://sushilshik.livejournal.com/ 10.2009 http://ostap-ogloedov.livejournal.com/ Будет дополняться... http://detur-dignio.livejournal.com/ Другие публикации:     22-июн-2017 10:47 am Последний раз редактировалось Chugunka; 10.09.2021 в 19:31. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
http://www.istpravda.ru/research/14229/
 В ночь с 21 на 22 июля 1941 года был совершен первый авиационный налет люфтваффе на Москву. Опытные пилоты гитлеровских бомбардировщиков, наводившие ужас на Лондон, в небе Москвы столкнулись с неразрешимыми проблемами. Первый же налет на столицу Советского Союза продемонстрировал несломленность советских войск после поражений первого месяца войны и готовность ПВО дать отпор агрессору. Об этом говорится в книге военного историка Дмитрия Хазанова «1941. Война в воздухе. Горькие уроки», фрагменты из которой сегодня публикует «Историческая правда». После захвата Белоруссии войсками вермахта Москва стала фигурировать как цель для соединений люфтваффе. В немецких авиационных штабах советская столица получила обозначение «объект 10», что, видимо, было связано с очередностью воздушных налетов. 8 июля 1941 г. начальник германского Генерального штаба сухопутных войск генерал Ф. Гальдер записал в дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация… Это будет, по его словам, народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) вообще». 13 июля командир 8-го авиакорпуса генерал В. Рихтгофен высказал мнение, что воздушный налет на Москву, имевшую свыше 4 млн жителей, ускорит катастрофу русских На следующий день Гитлер в очередной раз заявил о необходимости бомбардировки советской столицы, «чтобы нанести удар по центру большевистского сопротивления и воспрепятствовать организованной эвакуации русского правительственного аппарата». В утвержденной фюрером 19 июля директиве № 33 «О дальнейшем ведении войны на Востоке» ставилась задача «по возможности быстрее начать силами 2-го воздушного флота, временно усиленного бомбардировочной авиацией с Запада, воздушные налеты на Москву». Здесь же говорилось, что ее бомбардировка должна стать «возмездием за налеты русской авиации на Бухарест и Хельсинки».  [пост наблюдательный.jpg] В середине июля на Восток из состава находящегося во Франции 3-го воздушного флота перебрасываются шесть бомбардировочных авиагрупп. Это был пятый и последний эшелон, который по плану войны с Советским Союзом Геринг и его штаб вводили в бой. Ответственным за организацию налетов назначили командира 2-го авиакорпуса генерала Б. Лерцера. Ему оперативно подчинили все авиагруппы резерва Главного Командования; их предполагалось задействовать в первую очередь. Кроме того, в бомбардировке Москвы должны были участвовать эскадра KG53 из состава 2-го авиакорпуса 2-го воздушного флота (самолеты He111 действовали с аэродромов Дубицкая Слобода, южнее Минска и Борисова), авиагруппы I и II/KG55 из 5-го ак 4-го ВФ (также He111 с аэродрома Бояры, между Минском и Двинском, недалеко от Кривичей), группы I и II/KG3 из 2-го ак 2-го ВФ (Ju88 с аэродромов Орша и Бояры) и группа III/KG3 из 8-го ак 2-го ВФ (Do17 с аэродрома Вильнюс). Таким образом, из пяти действовавших на Восточном фронте авиакорпусов только 4-й ак не готовился бомбить Москву. 20 июля командующий 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршал А. Кессельринг провел совещание с командирами в связи с предстоящим рейдом. По его словам, русская авиация была уже практически разгромлена и оказать серьезного сопротивления не могла. Немецкий летчик фельдфебель Л. Хавигхорст, который в то время служил в эскадре KG28, вспоминал: «Накануне удара по русской столице на аэродром Тересполь, где находились два наших отряда, прибыл генерал-фельдмаршал Кессельринг. Он обратился к экипажам: – Мои авиаторы! Вам удавалось бомбить Англию, где приходилось преодолевать сильный огонь зениток, ряды аэростатных заграждений, отбивать атаки истребителей. И вы отлично справились с задачей. Теперь ваша цель – Москва. Будет намного легче. Если русские и имеют зенитные орудия, то немногочисленные, которые не доставят вам неприятностей, как и несколько прожекторов. Они не располагают аэростатами и совершенно не имеют ночной истребительной авиации. Вы должны, как это всегда делали над Англией при благоприятных условиях, подойти к Москве на небольшой высоте и точно положить бомбы. Надеюсь, что прогулка будет для вас приятной. Через четыре недели войска победоносного вермахта будут в Москве, а это означает конец войне…»  [кремль.jpg] Ночной бой Тактика налета мало отличалась от применявшейся при бомбардировках крупнейших городов Англии. Для наведения самолетов 100-й бомбардировочной группы, оборудованных радионавигационной аппаратурой «X-Gerat», создавались радиомаяки в районе Орши. Эти бомбардировщики, выполнявшие роли лидеров, выводились в створ радиолуча Орша – Москва и следовали строго определенным курсом, который не должны были менять, даже попадая в световые поля и под обстрел зенитной артиллерии. Экипажам самолетов определили конкретные цели, на которые предполагалось сбросить осветительные, зажигательные и фугасные авиабомбы. Так, бомбардировщики эскадры KG55 наносили удар по Кремлю, МОГЭСу, зданию ЦК ВКП(б), KG53 – по Белорусскому вокзалу и фабрике им. Клары Цеткин (видимо, немцы имели в виду завод по производству бездымного пороха), KG4 – по мостам в западной и северной части столицы. Можно согласиться с советскими контрразведчиками, отметившими, что сведения о многих целях для бомбометания были получены немцами еще до войны от сотрудников германского посольства и торгпредства, а также от пилотов авиакомпании «Люфтганза», совершавших регулярные рейсы по маршруту Москва – Берлин. Кроме того, еще в мирные дни в Москву и область абвер заслал агентов-сигнальщиков, которые оказали существенную помощь экипажам люфтваффе Подготовка к удару по Москве проводилась весьма поспешно. Об этом свидетельствует неукомплектованность до штатной численности бомбардировочных авиагрупп: не хватило времени их пополнить. А вот другой любопытный факт: аэродром Динабург (Даугавпилс) оказался не готов к приему группы III/KG4. К тому же здесь длина взлетной полосы не позволяла стартовать перегруженным «хейнкелям». По этой причине группу срочно перебазировали в Проверен близ Кенигсберга. Впервые с сентября 1939 г. все три боевые авиагруппы эскадры KG4 «Генерал Вефер» (58 бомбардировщиков, не считая транспортных и связных машин) оказались расположены на одном аэродроме. Многие немецкие командиры полагали, что скученность и спартанские условия на авиабазах не обеспечивают безопасности при одновременной работе большого количества самолетов и для соответствующей подготовки потребуется время. Но рейхсмаршал Геринг, возглавлявший люфтваффе, торопил и требовал, чтобы в предстоящей операции было задействовано не менее 150 бомбардировщиков. Налет на Москву в ночь на 22 июля напоминал таранный удар. В 21 ч с линии Рославль – Смоленск от постов ВНОС поступили первые данные о появлении в воздухе большой авиагруппы противника, 195 самолетов (по советским данным, их было 220) засветло взлетели с аэродромов Брест (Тересполь), Барановичи, Бобруйск, Дубинская и др. При этом 127 машин шли компактной группой, выдерживая направление Вязьма – Гжатск – Можайск. С наступлением темноты на маршруте полета специальные команды разложили костры, служившие экипажам ориентирами. На подступах к городу самолеты рассредоточились и проникали к назначенным им целям с разных направлений.  [зенитка.jpg] Зенитчики у Театра советской армии. В оперсводке № 01 штаба 6-го авиакорпуса, составленной в 7 ч утра 22 июля, делается такой вывод: «Начало налета осуществила группа в составе от трех до пяти самолетов, которые сбросили зажигательные бомбы, вызвав в четырех местах пожары. Последующие группы для освещения целей бомбометания сбрасывали осветительные ракеты на парашютах, создававшие сильное освещение и горевшие до 10-12 мин. Наряду с зажигательными бомбами противник сбрасывал фугасные бомбы различного калибра». Некоторые подробности о событиях той ночи рассказал фельдфебель Л. Хавигхорст: «…Наш He111 шел в отряде Хеллмана. Горящий Смоленск являлся хорошим навигационным ориентиром. Четким белым штрихом просматривалась дорога Смоленск – Москва. Скоро мы увидели 10-20 прожекторов, создававших световое поле. Попытки обойти его не удались: прожекторов оказалось много слева и справа. Я приказал поднять высоту полета до 4500 метров и экипажу надеть кислородные маски. Внезапно по нашему самолету открыла огонь русская зенитная артиллерия. К счастью, она стреляла неточно, но плотность разрывов была высокой. Когда наш самолет вплотную подлетал к Москве, мы увидели под собой Ju88 из другого соединения – он готовился пикировать на город. Собирались освободиться от своего бомбового груза и мы. В это время раздался взволнованный голос радиста: – Внимание, аэростаты! – Ты обалдел, – послышалось в ответ, – мы же летим на высоте 4500. Экипаж хорошо знал, что англичане не поднимали аэростаты выше 2000 метров, а здесь высота была, по крайней мере, удвоена. Тут же наличие аэростатного заграждения подтвердил бортмеханик. Я приказал сбросить бомбы, и как только мы повернули обратно, радист сообщил о приближении вражеского истребителя. Русский ночной истребитель (у них вообще не должно было существовать подобных) атаковал нас сверху слева. Радист открыл огонь, и к нему тотчас присоединился бортмеханик. Тогда истребитель был подбит и, загоревшись, перешел в пикирование. Это был первый истребитель, сбитый нашим экипажем. (Сегодня известно, что немцы ночью часто принимали выхлопы из патрубков за пожары в моторных отсеках. При отражении первого налета летчики Сергеев, Шокун и Зубов покинули свои машины с парашютами. Первые двое – после израсходования горючего, а у младшего лейтенанта Зубова – по неизвестной причине вспыхнул мотор. – Прим. авт.) Наш He111 приземлился с сухими баками в Тересполе в 4 ч 27 мин. На весь полет ушло 8 ч 4 мин».  [ПВО.jpg] Советская ПВО встретила налет во всеоружии. Уже в 22 ч 29 мин прожектористы подполковника Б.В. Сарбунова осветили первую цель. В зонах ожидания находились ночные истребители. В эту ночь они произвели 173 самолето-вылета. Им удалось расстроить боевой порядок противника, помешать прицельному бомбометанию. Но отдельные машины прорвались к своим целям. Так, некоторые экипажи II/KG55 достаточно точно поразили Кремль. Известный летчик-испытатель М.Л. Галлай, участвовавший в отражении первого воздушного удара, вспоминал: «Он очень нахально – не подберу другого слова – летал в эту ночь, наш противник! Гитлеровские бомбардировщики ходили на малых высотах – два, три, от силы четыре километра, – будто и мысли не допускали о возможности активного сопротивления с нашей стороны. Через несколько дней выяснилось, что так оно и было. Пленные летчики со сбитых немецких самолетов рассказывали, что по данным их разведки, с которыми их ознакомили перед вылетом, сколь-нибудь серьезную систему ПВО и, в частности, организованную ночную истребительную авиацию они над Москвой встретить были не должны.» Не должны были, но встретили! По неприятельским самолетам было выпущено 16 тыс. снарядов среднего и 13 тыс. малого калибра, а также 130 тыс. пулеметных патронов. Советское командование сообщило об уничтожении 22 немецких бомбардировщиков, из которых 12 – на счету истребителей. «В условиях ночного налета эти потери со стороны противника надо признать весьма большими, – говорилось в сводке Совинформбюро. – Рассеянные и деморализованные действиями нашей ночной истребительной авиации и огнем наших зенитных орудий немецкие самолеты большую часть бомб сбросили в леса и на поля на подступах к Москве. Ни один из военных объектов, а также ни один из объектов городского хозяйства не пострадал». Если верить показаниям взятых в плен летчиков и германским документам, то первая атака Москвы стоила люфтваффе шести-семи самолетов, потерянных по разным причинам, включая разбившиеся или серьезно поврежденные при вынужденной посадке уже на своей территории. Первым погиб той ночью экипаж командира 4/KG55 обер-лейтенанта О. – Б. Хармса, который вел группу из 35 машин. Можно привести мистический факт: накануне вылета Хармс написал прощальное письмо и просил командира группы отправить родным в случае его гибели, но майор Э. Кюль не понял его настроения Среди отличившихся этой ночью советских летчиков нужно отметить ст. лейтенанта И.Д. Чулкова из 41-го иап ВВС МВО. Впервые взлетев ночью на МиГ-3, он в 2 ч 10 мин 22 июля около Истры сбил бомбардировщик «хейнкель». Наутро обломки этой машины обнаружили командиры штаба 6-го иак в районе Подсолнечной. Начав войну на границе, Чулков уже успел одержать несколько побед и вскоре был представлен к званию Героя Советского Союза. Придавая защите столицы особое значение, И.В. Сталин в специальном приказе (приказ НКО № 0241 от 22 июля 1941 г.) объявил благодарность участникам отражения налета. Это был первый с начала войны приказ Верховного Главнокомандующего о поощрении. Вслед за этим 81 защитник Москвы был отмечен государственными наградами, в том числе пятеро награждены орденами Ленина.  [зенитчики.jpg] Однако вернемся в утреннюю Москву. Немецкие самолеты сбросили 104 т фугасных бомб и более 46 тысяч штук мелких зажигалок. По грубым оценкам, только половина вылетевших экипажей смогла выполнить задание. В результате первого налета пострадало 792 человека, 130 из которых погибли. В городе возникли 1166 очагов пожаров, причем 36 раз случались возгорания на военных объектах, а 8 – на железнодорожном транспорте. Огонь охватил постройки и вагоны на товарной станции Белорусская, военные склады на Волочаевской улице, хлебозавод и пакгаузы на Грузинском валу, несколько других небольших фабрик, заводов и жилых построек, а в Трубниковском переулке загорелось сразу несколько рядом стоящих домов. Наибольшие разрушения были зафиксированы на платформе Подмосковная, где бомбардировкой сильно повредило 100 м железнодорожного полотна, уничтожило 19 груженых вагонов, вывело из строя электросеть и телефонную станцию. За первым налетом последовали два, почти столь же мощных. После тщательной разведки центральной части города одиночным «юнкерсом» с большой высоты, в ночь на 23 июля в рейде на Москву участвовало 125 самолетов, а в следующую – до 100. Вечером и ночью 23 июля серьезно пострадал московский метрополитен. Одна крупная авиабомба пробила перекрытие тоннеля на перегоне Смоленская – Арбат, другая попала в эстакаду метромоста неподалеку, а третья разорвалась у входа в вестибюль у Арбатской площади. Пострадало более 100 человек, из которых 60 погибло. Наибольшие жертвы вызвала паника, возникшая на лестнице эскалатора. На восстановление последствий этой бомбардировки ушло двое суток В ту же ночь не менее 76 авиабомб различного типа упали в Кремле и на Красной площади, загорелся один из корпусов больницы им. Боткина, но пожар удалось погасить. В последующих ударах общая численность бомбардировщиков, принимавших в них участие, сократилась. Командиры немецких авиакорпусов на Восточном фронте и главное командование сухопутных войск противились выделению большого числа самолетов, ссылаясь на оперативные нужды своих секторов фронта. Так, 25 июля группу I/KG55 задействовали для удара по сосредоточению советских войск в районе Дорогобужа, где она потеряла два опытных экипажа. Вечером этого же дня часть перебазировалась под Житомир, прекратив действия на центральном направлении. Днем 25 июля эскадра KG4 готовилась к вылету на Москву, но за час до старта поступил приказ заменить фугасные бомбы в бомбоотсеках на мины и «атаковать советские морские силы в фарватере Эзеля» В результате на бомбардировку советской столицы устремилось только три He111 из I/KG28, а в следующую ночь – 65 машин. Несмотря на недостатки в действиях советской ПВО, приятной прогулки в небе Москвы у асов люфтваффе не получилось. Многие из них отмечали, что им удавалось относительно легко уклоняться от перехвата ночными истребителями русских, а вот мощный огонь зенитных орудий часто вынуждал прекращать выполнять задание. В настроении экипажей, которые участвовали в налетах на советскую столицу в конце июля, уже не было эйфории, наблюдавшейся неделю назад. Командир отряда 1/KGr100 обер-лейтенант Г. – Г. Бетхер вспоминал: «Из всех вылетов, которые я совершил на Востоке, самыми трудными оказались ночные налеты на Москву. Зенитный огонь был очень интенсивным и велся с пугающей кучностью». Отчаянное сопротивление советских войск и изменение направления главного удара вынудили группу армий «Центр» 30 июля временно перейти к обороне. Верховное командование вермахта, как свидетельствует директива № 34, отказалось от планов захвата Москвы с ходу. Но воздушное наступление на столицу было решено продолжить мелкими группами и одиночными самолетами. Им ставилась задача – держать в постоянном напряжении силы советской ПВО. Налет в ночь на 31 июля можно считать одновременно и типичным, и нетипичным. Типичным потому, что в нем участвовали самолеты одного отряда (семь – десять машин) в условиях сильной облачности. А нетипичным из-за выбранного маршрута: немецкие самолеты заходили на Москву с юго-востока, тогда как прежде – с секторов от северо-западного до юго-западного. Ни прожектористы, ни поднятые по тревоге 23 истребителя не смогли обнаружить неприятеля. Но и ущерб столице в эту ночь был нанесен незначительный. Остановимся подробнее на описании последнего крупного налета люфтваффе на Москву в ночь с 10 на 11 августа 1941 г. По советским данным, в нем участвовало около 100 бомбардировщиков в двух волнах. Главные силы из 80 самолетов шли четырьмя группами через Вязьму, Гжатск, Можайск. При подходе к линии световых прожекторных полей самолеты набрали высоту 6000-7000 м, а у зоны огня зенитной артиллерии начали планировать с приглушенными моторами. К городу прорвалось 12 самолетов, из них 5 – к центру. Основной целью налета были аэродромы и авиазаводы в пригородах, на которые сбросили 49 фугасных и 14 000 зажигательных бомб. В результате пострадали корпуса авиазавода № 240 и один из цехов авиазавода № 22 (сгорели три только что построенных бомбардировщика), а на летное поле в Кубинке попали две осколочно-фугасные бомбы SC1000 весом 1000 кг. В сложных метеоусловиях основная нагрузка при отражении налета легла на зенитчиков. Они доложили о восьми уничтоженных неприятельских самолетах, из которых немцы признали потерю двух, в том числе лидера – He111Н из KGr100. Другой лидирующий самолет был серьезно поврежден и уцелел лишь благодаря хитрости. Интенсивным оборонительным огнем экипаж сымитировал, будто отбивается от атаки русского истребителя. Зенитчики хорошо пристрелялись, но решили, что в ночном небе не видят своего «ястребка», и сделали паузу. Поврежденный «хейнкель» сумел выйти из светового поля и скрыться. В ночь на 12 августа в налете участвовало около 30 самолетов, но ущерб городу они нанесли существенный, что можно объяснить привлечением наиболее опытных экипажей и широким использованием тяжелых авиабомб. Одна из SC1000 разорвалась около памятника Тимирязеву у Никитских ворот. В брусчатке образовалась воронка глубиной 12 м и диаметром 32 м, погибли многие воины-зенитчики, получили повреждения трамвайные пути, вышла из строя контактная сеть, был сброшен со своего постамента памятник. Полутонная бомба SC500 попала в здание Арсенала Московского Кремля, полностью его разрушив и повредив многие близлежащие постройки, включая здание комендатуры. Со второй половины августа 1941 г., после одиннадцатого по счету налета, части эскадры KG55 (III группу отправили на отдых в район Вены) переключили на поддержку войск группы армий «Юг». Еще раньше из московского неба исчезли самолеты эскадры KG4. Чаще других в рейдах участвовали машины из III/KG26. Один из лучших и наиболее подготовленных экипажей этой авиагруппы 15 августа был успешно атакован советскими истребителями, и бомбардировщик упал в ближнем тылу Западного фронта. Три члена экипажа сгорели вместе с самолетом, а командир корабля обер-лейтенант Ф. Ульрих застрелился, не желая попадать в плен. Оставшийся в живых стрелок Г. Бальке, захваченный красноармейцами, ничего не сообщил о налетах на Москву. Их экипаж якобы подбирал место для нового базирования, заблудился и разбился. В это время штаб 2-го авиакорпуса вел активную кампанию по дезинформации советского командования. Были подброшены «секретные» данные о переброске на центральное направление 14 отрядов дальних бомбардировщиков специально для разрушения Москвы. Одновременно в районе Смоленска начали работать 16 мощных приводных радиостанций, чтобы немецким штурманам легче было ориентироваться ночью. К чести советской разведки, она смогла достаточно быстро разобраться в истинном положении дел, и 26 августа командующий ВВС генерал П.Ф. Жигарев приказал перебазировать на северо-западное направление, в основном на защиту Ленинграда, восемь истребительных авиаполков 6-го иак. Относительное затишье над столицей наблюдалось в течение всего сентября.  [москвичи.jpg] Первые итоги Подведем некоторые итоги летних боев. По мере освоения отечественных радиолокационных станций РУС-1 и РУС-2 и новых типов истребителей дневная деятельность пилотов люфтваффе все более осложнялась. Наилучших результатов авиаторы 6-го иак добились 25 июля; из трех вылетевших Ju88, принадлежавших 122-й разведывательной группе, два были сбиты около Истры. Ближе к концу июля немецкие разведчики в ясную погоду почти не летали на высотах меньших, чем 8000-9000 м, но многочисленные советские истребители часто препятствовали германским экипажам в выполнении задания. Иногда истребители сталкивались с противником «нос к носу», но далеко не всегда бой заканчивался уничтожением неприятельского самолета. Например, утром 5 августа лейтенант Ю.С. Сельдяков из 34-го иап обнаружил Ju88 около Наро-Фоминска на высоте 2800 м. После первой атаки «юнкерс» перешел в пикирование и скрылся на бреющем. Вечером этого же дня безуспешную атаку цели западнее Можайска предпринял лейтенант Обухов – летчик 11-го иап. После приземления он доложил: «Противник ушел, маскируясь дымкой». Недостатки в тактической и огневой подготовке советские летчики стремились компенсировать самоотверженностью. Наиболее отважные старались уничтожить врага любыми способами, вплоть до тарана. Именно так в ночь на 8 августа сбил He111 летчик 177-го иап мл. лейтенант В.В. Талалихин, в ночь на 10 августа тоже He111 – летчик 34-го иап лейтенант В.А. Киселев, а на следующий день – летчик 27-го иап лейтенант А.Н. Катрич, который действовал в кислородной маске и таранил «дорнье» на высоте 8000 м. Этот подвиг вошел в историю как первый высотный таран. Все три советских авиатора благополучно вернулись в строй, и их имена стали известны далеко от Москвы. Согласно официальным данным войск ПВО, при отражении ночных налетов на Москву только истребители в июле – августе сразили 37 неприятельских самолетов, то есть в каждом третьем бою одерживалась победа. На уничтоженную машину приходится в среднем 52 вылета перехватчиков. Понимая, как нелегко бороться с многоопытным врагом, советское командование значительно изменило отношение к воздушным таранам. В первых боях ни командир корпуса, ни его заместители не поощряли такой прием: ведь для того и стоят на истребителях пушки и пулеметы, чтобы их огнем уничтожать неприятеля. Если летчик не мог попасть в цель, значит, он недостаточно метко стрелял. На деле все оказалось гораздо сложнее.  [младший лейтенант Виктор Васильевич Талалихин.jpg] Летчик-истребитель, Герой Советского Союза, младший лейтенант Виктор Васильевич Талалихин (слева) беседует со своим боевым товарищем, сидящим в кабине самолета. Три августовских тарана В.В. Талалихина, В.А. Киселева и А.Н. Катрича стали известны всей стране и пропагандировались политорганами. Между тем вслед за С.С. Гошко таким же образом 25 июля уничтожил врага его однополчанин – лейтенант Б.А. Васильев, но об этом широко не сообщалось. Также малоизвестным осталось имя старшего лейтенанта П.В. Еремеева из 28-го иап. В ночь на 29 июля он таранил самолет, который тогда принял за Ju88. (В действительности это был He111 из III/KG26). Еремеев по праву считался одним из лучших пилотов в своем полку, первым стартовав ночью на МиГ-3. Во время отражения налета в ночь на 22 июля он в воздушном бою был ранен, но, несмотря на это, выполнил второй ночной вылет. Свой подвиг П.В. Еремеев совершил на девять ночей раньше, чем В.В. Талалихин, но о таране в течение длительного времени знали только однополчане. Это тем более обидно, что таран Еремеева оказался единственным, отмеченным в немецких документах, которые относятся к периоду летних налетов на Москву. Летчик сбитого «хейнкеля» унтер-офицер А. Церабек сумел перейти линию фронта. Его рассказ о манере русских вести бой удручающе подействовал на сослуживцев. Если говорить о морально-психологическом эффекте, то большое воздействие на немецких летчиков производил огонь зенитной артиллерии. Часто при ночном налете одиночные экипажи как бы наталкивались на «заградительные полосы», создаваемые зенитным огнем. Пытаясь обойти такую полосу, вражеские бомбардировщики уходили в сторону, но там попадали под разрывы заградительного огня, создаваемого соседним сектором. Экипажи немецких машин отмечали, что «русские снарядов не жалели». Особенно запомнились им обстрелы над Москвой во время третьего массированного налета. Ожидалось, что в густой облачности «хейнкели» и «юнкерсы» будут чувствовать себя в безопасности, но именно мощный заградительный огонь помешал им, по крайней мере, большинству, прорваться к городу. «Шрапнель зенитных снарядов барабанила по улицам, точно град, – констатировал британский журналист А. Верт, представлявший в Москве газету «Санди Таймс». – Десятки прожекторов освещали небо. В Лондоне мне не приходилось ни видеть, ни слышать ничего подобного» Сыграла свою роль и зенитная артиллерия малого калибра: она вела успешную борьбу с осветительными авиабомбами при их снижении на парашютах. Также А. Верт отметил самоотверженные действия москвичей. «В широких масштабах была организована борьба с пожарами. Позже я узнал, что многие из тех, кто тушил пожары, получили тяжелые ожоги от зажигательных бомб, иногда по неопытности. Мальчишки первое время хватали бомбы голыми руками!» Верту вторит В.Н. Гнеденко, один из руководителей штаба МП ВО. Проезжая в районе Красной Пресни, он наблюдал, как с немецкого самолета были сброшены зажигательные бомбы. «Прямо перед моей машиной из подворотни выскочила группа ребят. Рассыпавшись по мостовой, как воробьи, они хватали зажигательные бомбы за оперение, ударяли их о мостовую, чтобы отшибить горящую часть, и оставляли их догорать посреди улицы».  [бомбоубежище.jpg] Москвичи на перроне станции "Маяковская", ставшей бомбоубежищем. Советские сводки зафиксировали многочисленные случаи самоотверженных действий населения по устранению очагов пожаров: «На К-й улице три зажигательных бомбы пробили крышу и попали на чердак. Дежуривший на крыше дворник тов. Петухов не растерялся. Он мгновенно спустился на чердак и засыпал зажигательные бомбы песком… Во двор деревянного двухэтажного дома в Б-ом переулке упали две зажигательных бомбы. Домохозяйка Антонова немедленно их загасила… В здание средней школы в Л-ом районе попало пять зажигательных бомб. В несколько минут все бомбы были потушены. На крышу общежития ремесленного училища упало 11 зажигательных бомб. Отлично работали ученики этого училища Николай Костюков, Владимир Семенов и Алексей Дворицкий. Все одиннадцать бомб были ими сброшены с крыши и потушены во дворе…» Газета «Правда» писала 24 июля: «Опыт борьбы с фашистскими воздушными пиратами во время ночных налетов на Москву показал, что всюду, где население проявляет выдержку, хладнокровие, боевую готовность, метание зажигательных бомб не дает врагу ожидаемых результатов». В то же время многие немецкие экипажи, докладывавшие о прямых попаданиях в тот или иной объект, не знали, что стали жертвой маскировки. С началом войны Ставка приказала закамуфлировать наиболее заметные строения, такие как гостиница «Москва», здание СНК СССР, Библиотека им. Ленина и Центральный театр Красной Армии, замаскировать излучину Москвы-реки около Кремля. Как теперь известно, 29 июля над центром города примерно полчаса кружил самолет ПС-84, с борта которого сотрудники НКВД проверяли эффективность маскировочных мероприятий, выявляли демаскирующие строения, высказали предложения по дополнительной окраске некоторых крыш и площадей, установке макетов. Многочисленные ложные объекты, созданные в июне и июле, сыграли очень важную роль, так как с воздуха воспринимались как подлинные промышленные предприятия, электростанции, автохозяйства… Например, по данным штаба МПВО, 71 фугасная и 730 зажигательных бомб попали в «элеватор» – бутафорский объект в районе поселка Плетениха; почти каждую ночь немцы бомбили фанерные домики, не найдя находящийся поблизости комбинат, где хранилось и перерабатывалось зерно. Конечно, пострадали не только ложные цели. 25 июля оказалась разрушена платформа Москва-Сортировочная, сгорел небольшой склад и частично барак ЦИАМ. В эту ночь сигнал воздушной тревоги был дан с опозданием, и многие москвичи не смогли укрыться в бомбоубежищах. Директор 1-го Государственного подшипникового завода А.А. Громов оставил воспоминания: «В одну из последних июльских ночей вражеские самолеты сбросили на завод тяжелые фугасные бомбы. Одна из них упала где-то вблизи главного корпуса. Последовал оглушительный взрыв, и все кругом окуталось едким дымом. Взрывной волной разрушило одну из стен. Из разорванных водонапорных труб хлынула упругая струя воды. Мы устремились к месту взрыва. Под ногами хрустели осколки стекла. Бездыханная женщина лежала неподалеку. Эта была первая жертва фашистской бомбардировки. В те дни все мы стали солдатами одного фронта…» Всего в результате бомбардировок с 22 июля по 22 августа 1941 г. погибло 736 москвичей и 3513 человек получили ранения. Выдавая желаемое за действительное, берлинское радио сообщало в августе 1941 г., что «люфтваффе подвергают Москву уничтожающей бомбардировке» и будто «заводы и фабрики, расположенные вокруг Москвы, настолько разрушены, что всем иностранцам запрещен выезд за пределы Москвы. Кремль и почти все вокзалы разрушены, Красной площади не существует. Особенно пострадали промышленные районы. Москва вступила в фазу уничтожения». Уместно хотя бы кратко сравнить оборону с воздуха Москвы и Лондона. По данным англичан, к июлю 1940 г. (то есть, ко времени массированных налетов люфтваффе) Лондон защищали 328 орудий среднего и крупного калибра и 124 орудия малого калибра. Здесь же действовали 22 истребительные эскадрильи с 336 самолетами. В общей сложности это примерно вдвое меньше, чем в ПВО Москвы летом 1941 г. Значительным преимуществом ПВО Лондона было не только оснащение, но и освоение новейших радиотехнических средств. К лету 1940 г. на побережье Англии действовали 38 радиолокационных станций, из них 19 были специально предназначены для обнаружения низколетящих немецких самолетов. Значение РЛС в обороне Лондона трудно переоценить. Донесения с радиолокационных станций и из центров корпуса наблюдателей (аналог советской ВНОС) прежде всего поступали на командные пункты истребительной авиационной группы. (Первая макетная установка РУС-2 заступила на боевое дежурство в окрестностях Москвы только 23 июля 1941 г., у расчетов станций РУС-1 из 337-го отдельного радиобатальона не имелось опыта, а сама аппаратура работала летом еще весьма ненадежно.) Подводя итог, следует отметить, что за время налетов Лондон пострадал значительно сильнее Москвы. Неоднократно огонь в английской столице бушевал по 5-6 суток. Как теперь известно, британские пожарные команды выезжали к месту возгораний только после окончания налета. Но и силы, которые выделило люфтваффе для атак Лондона, были намного крупнее, а потери немецких самолетов – существенно большими. Налеты на Лондон показали не столько силу английской ПВО, сколько неподготовленность люфтваффе для решения стратегических задач. Атаки Москвы еще раз подтвердили, что немецкая авиация была не способна наносить мощные удары по удаленным объектам.  [зенитка_2.jpg] Дмитрий Хазанов, автор книги «1941. Война в воздухе. Горькие уроки». 03:00 03/01/2016 |
|
#10
|
||||
|
||||
|
http://www.istpravda.ru/research/9569/
 Страна отмечает очередную годовщину начала Великой Отечественной войны падения. «22 июня ровно в 4 утра войска гитлеровской Германии вероломно, без объявления войны, атаковали границы Советского союза…» - эти строки из Сообщения Информбюро каждый из нас знает и помнит с детства. Можно долго спорить о том, насколько нападение Германии действительно было для советского руководства неожиданным и «вероломным», другой вопрос – как восприняли войну обычные граждане? Что думали военачальники? Осознавали ли они, что в июне 41 года началась самая страшная в истории человечества война? Об этом – новый цикл публикаций «Исторической правды». Из воспоминаний маршала Г. К. Жукова: «С. К. Тимошенко в моем присутствии позвонил И. В. Сталину и просил разрешения дать указание о приведении войск приграничных округов в боевую готовность и развертывании первых эшелонов по планам прикрытия. "Подумаем",— ответил Сталин. На другой день мы были у И. В. Сталина и доложили ему о тревожных настроениях и необходимости приведения войск в полную боевую готовность. "Вы предлагаете провести в стране мобилизацию, поднять сейчас войска и двинуть их к западным границам? Это же война! Понимаете вы это оба или нет?!" Затем И. В. Сталин все же спросил: "Сколько дивизий у нас расположено в Прибалтийском, Западном, Киевском и Одесском военных округах?" Мы доложили, что всего в составе четырех западных приграничных военных округов к 1 июля будет 149 дивизий и отдельная стрелковая бригада... "Ну вот, разве этого мало? Немцы, по нашим данным, не имеют такого количества войск",— сказал И. В. Сталин. Я доложил, что по разведывательным сведениям, немецкие дивизии укомплектованы и вооружены по штатам военного времени. В составе их дивизий от 14 до 16 тысяч человек. Наши же дивизии даже 8-тысячного состава практически в два раза слабее немецких. И. В. Сталин заметил: "Не во всем можно верить разведке..." Во время нашего разговора с И. В. Сталиным в кабинет вошел его секретарь А. Н. Поскребышев и доложил, что звонит Н. С. Хрущев из Киева. И. В. Сталин взял трубку. Из ответов мы поняли, что разговор шел о сельском хозяйстве. "Хорошо",— улыбаясь, сказал И. В Сталин. Видимо, Н. С. Хрущев в радужных красках докладывал о хороших перспективах на урожай... Ушли мы из Кремля с тяжелым чувством». * * * Из воспоминаний Л. М. Сандалова, начальника штаба 4-й армии, Брест: «В ночь на 14 июня я поднимал по боевой тревоге 6-ю стрелковую дивизию... В те тревожные дни некоторые командиры, а также местные партийные и советские работники стали отправлять свои семьи в глубь страны. Однако Военный совет армии осудил это и неофициально запретил командному составу самостийную эвакуацию семей, так как она могла вызвать нежелательную реакцию в войсках и среди населения... Тревожное настроение, достигшее особой остроты к середине месяца, как-то было приглушено известным Заявлением ТАСС, опубликованным в газете "Правда" 15 июня. В этом документе опровергались сообщения иностранной печати о якобы возникших между Советским Союзом и Германией разногласиях. Заявление ТАСС расценивало слухи о сосредоточении на границе немецких и наших войск как неуклюжую пропаганду, состряпанную враждебными СССР и Германии силами..».  * * * Из воспоминаний Д. В. Павлова, наркома торговли РСФСР: "На четвертый день после начала войны у заместителя Председателя Совнаркома СССР Н. А. Булганина в Кремле состоялось совещание... Обсуждался вопрос о порядке перехода на нормированное снабжение. Имевшиеся запасы продовольствия не могли обеспечить свободную продажу на длительный срок, а нехватка продуктов при открытой торговле неизбежно привела бы к спекуляции, очередям, падению дисциплины на производстве. Для предотвращения такой опасности и создания устойчивого снабжения армии и населения правительство решило без промедления ввести карточки. Хотя в распределительной системе и таилось немало отрицательных сторон, но переход от свободной торговли к рационированию был единственно приемлемым решением. Эта мера означала крутой поворот в экономической жизни страны... Перед закрытием совещания Булганину принесли сводку о положении на фронтах. Он тут же прочитал ее, подошел к карте, висевшей на стене, посмотрел, покачал головой и, обернувшись к нам, сказал: "Немцы подошли к Минску. Город объят пламенем. От бомб погибло много жителей". * * * Из дневника академика В. И. Вернадского: "12 июня 1941 г. Несколько дней не писал. Читал Неедлого, Lenin. Много для меня интересного. Пережил опять времена моей молодости и студенческие годы... Многое рисуется теперь иначе, чем тогда. Это и понятно — пришлось пережить целый исторический перелом... Переживаем вторую бойню, последствия которой должны быть еще больше. Из первой мировой бойни создалось полицейское, как и прежнее, государство, но власть находится в новых руках и основное стремление — социализм без свободы личности, без свободы мысли... Совершенно иначе будет оценена творческая деятельность В. И. Ульянова-Ленина. Многое было бы иначе, если бы его жизнь не была насильственно прервана. Или и без этого неизлечимая болезнь? И. П. Павлов относился к нему иначе, считая, что это патологический тип больного "преступника". 1924 год — еще не сложивший советского государства. 17 лет после его смерти не дали развития многому, что он мог бы дать... 19 июня. Интересно, сколько правды в том, как объясняет нам наш ТАСС о Германии... Говорят, что Германии был представлен ультиматум в 40 часов вывести ее войска из Финляндии — на севере у наших границ. Немцы согласились, но просили об отсрочке — 70 часов, что было и дано. 22 июня. По-видимому, действительно произошло улучшение, вернее, временное успокоение с Германией... Грабарь рассказывал, что он видел одного из генералов, которого сейчас и в партийной, и в бюрократической среде осведомляют о политическом положении, который говорил ему, что на несколько месяцев опасность столкновения с Германией отпала... 23 июня. Только в понедельник выяснилось несколько положение. Ясно, что опять, как с Финляндией, власть прозевала... Бездарный ТАСС со своей информацией сообщает чепуху и совершенно не удовлетворяет. Еще никогда это не было так ярко, как теперь".  Советские граждане слушают объявление о нападении Германии. * * * Из дневника профессора Л. И. Тимофеева: "25 июня 1941 года. ...Война, по-моему, встречена хорошо: серьезно, спокойно, организованно. Конечно, покупают продукты, стоят очереди у сберкасс, которые выдают по двести рублей в месяц, но в общем все идет нормально. О войне узнали некоторые москвичи раньше: в 2 часа ночи некоторые слышали немецкое радио и речь Гитлера о войне. Они успели взять вклады в кассе... В ночь на 24-е в 3.15 проснулся от воя сирен и стрельбы зениток — конечно, отдаленных. Оделся, поднял семейство. Вскоре все затихло. Наутро говорили, что было три самолета-разведчика... 19 июля. Вчера был в Москве. На обратном пути были застигнуты тревогой (это пятая), остановили машину, спустились в бомбоубежище какого-то дома, на Сретенке. Вообще все шло хорошо, спокойно и организованно. Через 40 минут дали отбой. Москва все больше напоминает прифронтовой город: везде грузовики с боеприпасами, пушками и прочее, замаскированные ветками, за городом — позиции зениток, на бульварах — аэростаты заграждения. Говорят, бои идут близ Смоленска. Очевидно, вторая волна началась около недели назад. Сводки очень лаконичны, радио второй день молчит: должно быть, перевозится куда-нибудь. На худой случай решил ехать в Гороховец. Бензина есть много (дают). Началась плохая погода. 23 июля. Начали бомбить Москву... В Москве народ настроен тревожно. Говорят главным образом об эвакуации. Стоят очереди... Продовольственные нормы неплохи: 800 (рабоч.) и 600 гр. (служащ.) хлеба в день. 1200 гр. мяса на месяц и т. д. Кроме того, продукты продаются свободно, но по удвоенным ценам. В Москве раскрашивают площади, маскируя их, и т. п. Говорят, Ленинградское шоссе застроено домиками и машины ездят не прямо, а между ними..."  * * * Из дневника школьника Георгия Эфрона (Москва): "8 июня. Сегодня разразилась война на новом фронте. С раннего утра войска генерала де Голля при поддержке английских императорских сил вступили в Сирию в районе Джебель Друз. Это случилось вовремя: еще чуть-чуть, и немцы бы заняли всю страну. Генерал Денц, начальник войск, верных Виши, дал приказ сопротивляться силам союзников и организовать защиту территории. Французы бьются против французов! Вот куда их загнала капиталистическая система и подлость их начальников. В сирийской истории мои симпатии на стороне де Голля. (…) Говорят, что Гитлеру предложили мир в обмен на его уход в отставку и разделение Германии. Гитлер якобы согласился на отставку, но не на разделение Германии... 11 июня. Когда же наступит война за СССР? А вдруг немцы помирятся с англичанами, чтобы выступить против нас? Все может случиться, и, по существу, это не так невероятно. Во всяком случае, СССР зверски вооружается, явно чтобы воевать и защищаться... 25 июня. ...Вся Москва вчера гудела о том, что Красные Войска взяли Варшаву и Кенигсберг,— но это, вероятно, только слухи. Во всяком случае, немчура получает по носу... 27 июня. Вчера дежурил во дворе нашего дома 6 часов: с 6 вечера до полуночи. Я следил за тем, чтобы все огни были тщательно замаскированы, и в случае воздушной тревоги должен был предупредить всех жителей того подъезда, где я дежурил... Тот же день. Ну вот. Опять дежурство, на этот раз с 6 до 9 утра. Довольно хреново, но ничего не поделаешь, это надо. Когда я возвращался к себе, какая-то шайка дураков мне плюнула в лицо через дверь лифта. В глубине фактически мне наплевать, но для меня это символично... 29 июня. Сегодня я сдал наш приемник на почту — все приемники надо сдавать государству, которое будет их хранить в течение всей войны. Но я держу пари, что потеряю квитанцию, и мы его больше не увидим".  На митинге в Москве. * * * Из дневника геолога Н. С. Файнштейна (Москва): "3 июля 1941 года. В райвоенкомате разговор был короткий: "Пойдете воевать сегодня?" И мы пошли... 4 июля 1941 года. Ноги горят от сапог, теплых портянок и с непривычки. Сразу же натер левую ногу. Невольно вспомнил свои удобные ортопедические туфли. Команда строиться: "Справа, по два, в столовую!" Сели по 10 человек за стол. Дали свежие щи, треску с картошкой, чай с сахаром. После обеда смотрели фильм "Если завтра война". Картина разгрома вражеской армии. Победный фильм. Лихая атака кавалерии. Азарт заражает и сугубо мирных людей. Миуткин, инженер-электрик из Гипроцемента, заметил: "Только бы сапоги дали другие, в наших так не побежишь с пулеметом вперед!"... 5 июля 1941 года. После ужина была политинформация и концерт. Клавдия Шульженко спела несколько песенок. "Тачанка" и "До скорого свидания!" вызвали бурю аплодисментов. Сказывается общее настроение. Правда, еще слышатся разговоры о том, что "я, такой-то специалист, и вдруг — пехотинец!". Но таких разговоров все меньше". * * * Из дневника писателя Всеволода Иванова (Москва): 27 июня. Всюду шьют мешки, делают газоубежища. Появились на заборах цветные плакаты: никто не срывает. Вечером — Войтинская звонит, говорит, что я для "Известий" — мобилизован. А я говорю: ""Красная звезда" как же?" Она растерялась. Очень странная мобилизация в два места. В промежутке между работой стараюсь не думать, занимаюсь всяческой ерундой — читаю халтурную беллетристику, письма… 8 июля. ...Вся Москва, по-моему, помимо работы занята тем, что вывозит детей. Пожалуй, это самое убедительное доказательство будущей победы — гениальные муравьи всегда, первым долгом уносят личинки.— Закрасили голубым звезды Кремля, из Василия Блаженного в подвалы уносят иконы... 9 июля. В Союзе писателей все говорят о детях; пришли два писателя — хлопочут об огнетушителях для своих библиотек. Досидел до двух, а затем с Лебедевым-Кумачом, Кирпотиным и Барто поехали в Моссовет к лысому Майорову, хлопотать об отправке детей. Встретил там Бадигина, Героя Советского Союза, он уезжает на фронт, на Балтику. Стоял он в широком коричневом костюме, ждал Майорова и нервно грыз спичку. Барто хлопотала о себе — ей очень хочется в Свердловск, т. к. Казань ей кажется слишком близко... 10 июля. В "Известиях" встретил Якуба Коласа. Он рассказывал, как выбирался из горящего Минска с женой и детьми; остановился среди машин, все его приветствовали и сказали, что не покинут, а когда он проснулся — вокруг никого не было, он остался один... 11 июля. Писать не мог, хотя и пытался. Жара удушливая, асфальт мягкий, словно ковер, по нему маршируют запасные, слышны звуки команды и стук по железу — в Третьяковке упаковывают машины. 12 июля. Приходили из "Малого"; они, для поднятия настроения, играют два раза в неделю. Это хорошо... На улице заговорило радио и уменьшилась маршировка. По-прежнему жара. Летают хлопья сгоревшей бумаги — в доме есть горячая вода, т. к., чтобы освободить подвалы для убежищ, жгут архивы. Продовольствия меньше — закупают на дорогу детям и семьям; трамваи полны людей с чемоданами; по улицам ребята с рюкзаками и узелками. Детей стало заметно меньше, а женщин больше. Исчезли люди в шляпах, да и женщины, хотя носят лучшие платья, тоже ходят без шляп. Уже стали поступать жалобы на то, что детишкам, выселенным в районы, живется неважно; да это и понятно — попробуй обслужи их".  Слушают выступление Молотова. * * * Из дневника Л. Осиповой (Ленинградская область): "28 июня. Самое поразительное в жизни населения — это ненормальное молчание о войне. Если же кому-нибудь и приходится о ней заговаривать, то все стараются отделаться неопределенными междометиями. 30 июня. Слухи самые невероятные. Началась волна арестов, которые всегда сопровождают крупные и мелкие события нашего существования. Масса людей уже исчезла. Арестованы все "немцы" и все прочие "иностранцы". Дикая шпиономания. Население с упоением ловит милиционеров, потому что кто-то пустил удачный слух, что немецкие парашютисты переодеты в форму милиционеров. Оно, конечно, не всегда уверено в том, что милиционер, которого оно поймало, немецкий парашютист, но не без удовольствия наминает ему бока. Все-таки какое-то публичное выражение гражданских чувств. По слухам, наша армия позорно отступает. * * * Из дневника академика С. И. Вавилова (Ленинград): "18 июля. Ощущение закапывания живым в могилу. Разор, разборка института, отъезд в казанские леса неизвестно на что, бросание квартиры с книгами... 20 июля. Ощущение совершенно разорванной жизни. В институте заколоченные ящики, которые отправят на вокзал. Впереди страшные перспективы — казанских лесов. Чувство горечи, беспомощность, бесперспективность и разорвавшиеся связи. Сегодня воскресенье — четвертое после гитлеровского 22-го. По инерции побрел на Литейный. Попал в "тревогу", которая длилась 1,5 часа". * * * Из воспоминаний Михаила Хорева, командира роты 360-й полка резерва Верховного командования:"Для нас война началась уже 22 июня, мы тогда находились в лагерях, в 70 километрах от нашей границы, но о войне мы услышали только в 12 часов, когда по радио выступил Молотов, потому что немецкие диверсанты сумели нарушить нашу связь со штабом округа. В лагере я был на должности заместителя командира батареи и вот 22 июня меня, после завтрака, вызывает командир батареи и дает мне указание провести соревнования по кроссу между взводами. Мы побежали три с половиной километра до озера. Добежали до финиша и получили команду: срочно вернуться. В 12.00 все собрались в полевом клубе и вот только тогда узнали о начале войны. Собрали митинг, на котором выступали наши офицеры, солдаты. Надо сказать, в то время доктрина была выражена еще Ворошиловым – малой кровью на территории противника, в таком вот ключе и выступали. Наш замполит закончил свое выступление призывом: «Да здравствует берлинское пиво!!!» Я никогда этого не забуду. После митинга командир нашего полка, очень солидный полковник, таким зычным голос: «А теперь слушай мою команду – боевая тревога! Всем выйти в запасные районы сосредоточения». К 14 часам боевые подразделения нашего полка, в том числе моя батарея, входившая в 1-й дивизион, которым командовал Герой Советского Союза капитан Большаков, вышли в запасные районы сосредоточения. А там кругом лес был, мы только вышли, начали маскировку и вдруг видим – над нами пролетели немецкие самолеты и начали бомбить наш лагерь, а там еще тыловики находились, они не успели выйти. Мы только и видели, как наши палатки поднимаются и летят в воздух! С началом темноты мы пошли вперед, а утром 24 июня развернулись на позициях и открыли огонь. В течение целого месяца мы сдерживали противника, правда, отступая с рубежа на рубеж, а в середине июля немцам удалось окружить наш корпус. Тогда тяжелый бой был, мне пришлось даже перейти на наблюдательный пункт, командир батареи был тяжело ранен, и там осталось два неопытных офицера, но когда нас окружили, командир дивизиона приказал мне и командиру третьей батареи вернуться к огневикам, там основная масса людей и боевой части, а я, говорит, возглавлю взводы управления. Я направился на огневые позиции, а немцы в это время как раз их бомбили, в результате, когда я прибыл, все были в траншеях, укрытые и потерь практически не понесли, только один младший лейтенант, командир второго взвода, с группой решил уйти из-под бомбежки, и вроде того, как самостоятельно выйти из окружения. Когда бомбежка прекратилась, я скомандовал: «По машинам!», чтобы ехать вперед, мы готовились к прорыву из окружения. (…) Мы решили обходным маршрутом, по лесным дорогам выйти к своим. Так и поехали. По пути встретили медсанбат, четыре машины, там легкораненых был целый взвод, а у меня у трактора прицеп был, и я их посадил в свой прицеп. Остановились, когда у меня закончилась карта. У нас в колонне старший лейтенант-танкист был, мы к нему подошли, а он и говорит: «Лейтенант, у вас карта есть?» «Есть. Но она закончилась». И у него закончилась. Решили, раз дорога идет на восток, то и нам туда. Я замыкающим был и вот, только я подошел к своему трактору, как по нам немцы открыли интенсивный огонь, мы в засаду попали, правда не понятно, почему они не стреляли, когда все командиры собрались на совещание. Мои легкораненые, под прикрытием бронемашин, побежали вперед, а я остался с разведчиками и трактористом. Смотрю, справа и слева к нам бегут немцы, некоторые мои солдаты уже подняли руки, немцы их шуруют, а у меня даже мысли не было сдаться в плен, я даже не представлял, что это такое. Я приказал разведчику: «Гранаты к бою!», и он по левой группе нанес удар, а я по правой. Немцы залегли и мы решили бежать. За мной два немца погнались, они по портупее поняли, что я командир и хотели меня захватить, но я физически крепким был, и сумел обмануть их своими маневрами. Затаился, они пробежали мимо, а тут уже темнота наступила. На другой день я вышел к широкому оврагу, который шел на восток и решил, что по нему наши выходили. Пошел через него и через какое-то время меня остановили: «Стой, кто идет?!» Я представился. Оказалось это остатки батальона прикрытия Ковалева. И мой разведчик был там, он решил отвлечь на себя немцев, но они побежали за мной, а разведчик вышел на эти остатки. И вот с этим батальоном, 60 человек, прошлись рейдом по тылам врага, нападая на отдельные гарнизоны. Один раз мы захватили батарею, которая занималась огневой подготовкой. Смотрим, на опушке леса 4 орудия, и решили внезапно напасть на них из леса. Большинство перебили, ну, некоторые убежали. А в батальоне, кроме меня, еще артиллеристы были, и я использовал все имеющиеся у меня снаряды по большому населенному пункту. Стреляли до тех пор, пока из этого населенного пункта в нашу сторону пошла колонна бронемашин, тогда мы решили ретироваться. Мы взорвали эти орудия и начали отступать. Немцы нас преследовали, по-моему, дня полтора, а потом мы от них оторвались".  * * * Из воспоминаний Михаила Городецкого (Киев): "22 июня 1941 года я работал в ночной смене в токарном цеху. Где-то в полпятого утра раздался взрыв, в цеху разбило стекла. А цех высокий, окна большущие – там и так дуло со всех сторон, а тут прямо ветер гуляет. Я не понял, в чем дело. Остановил станок, пошел во двор, посмотрел – а там убитые лежат. Я спрашиваю: «Что случилось?» А люди все были на улице: «Война началась!» Вот эта первая бомба попала в инструментальный цех. 26 июня на заводе было комсомольское собрание, а я был комсомолец. И набирали добровольцев на фронт. Наш комсомольский вожак задал вопрос: «Кто пойдет добровольцем?» Я первый руку поднял, что я пойду. Мне сразу дали расчет и направили в военкомат. Пошел в военкомат, оттуда меня направили на стадион «Динамо». Там копали окопы, делали траншеи, учили стрелять из винтовки, бросать гранаты. Каждый день поступали люди, и каждый день кого-то забирали на фронт. Брали на фронт уже пожилых людей, из них формировали стрелковые роты. Я там был недолго, потому что уже знал и винтовку, и автомат. А почему знал? До войны я ходил в кинотеатр на площади Артема, там висела винтовка, и на стене было такое задание – «отгадай части винтовки». Я читал эти задания, любил это дело, хорошо знал и винтовку, и пулемет. Через четыре дня послали меня на реку Ирпень, там был мост. Село Екатериновка – это была последняя прифронтовая точка, дальше никто не мог пройти, только по пропускам. Рядом были бетонные доты, кусок такого дота с амбразурой и сейчас там стоит. Внутрь не пускали, я возле этого дота приспособился. Капитан сказал мне: «Ты будешь пулеметчиком, первым номером, только иди, выкопай себе траншею». Я пошел копать себе траншею, выкопал. Там еще несколько человек организовали, дали мне второго номера. Но не успели мы и одного раза стрельнуть, как нас сняли с фронта, как несовершеннолетних. Немец в это время уже был в Пуще-Водице. Мы шли пешими на Киев, без оружия. Пришли в Киев, пошли на Печерск, чтобы взять винтовки, но там было закрыто, везде замки висели. Это за несколько суток до прихода немцев! Закрыли склады, а там винтовок полно было! И боеприпасы были, и все остальное – все было закрыто! Мы хотели сбить замок, к нам из склада вышел какой-то человек: «Вы не имеете права! Вас за это судить будут!» Не дали нам ни винтовок, ни патронов. Потом мы расположились на Оболони, тогда эта местность называлась Наталка. Там домов не было, а был пустырь. Пришли туда, нам сказали: «Отдыхайте». Наутро всех подняли в шесть часов, дали обмундирование. Дали нашему старшему справку о том, что он сержант, командир пулеметного отделения. Стали раздавать нам пулеметы, винтовки. Но не всем – не хватало вооружения. Мне какой-то командир сказал: «Подожди, ты получишь пулемет». Но ни пулемета, ни винтовки так и не дали. Пошли на Днепр, на Цепной мост, но через него уже пройти не могли, он был взорван. Нас повели на Подол, на железнодорожный мост имени Петровского, мы через него ночью перешли.В Киеве один сержант дал мне винтовку СВТ, на десять патронов. Ой, что Вам про нее сказать? Она плохо стреляла, такая ненадежная была. Я даже снял нижнюю рубашку, разобрал ее, все почистил, закрыл ее. Стали стрелять, а она у меня не стреляет. Очень неудачная была, ее потом сняли с вооружения. А сержант, который дал мне винтовку, говорит: «Я дальше не пойду, мне надо оставаться». Многие члены партии оставались в подполье, и он ушел с ними. А киевская милиция сначала с нами пошла. Прошли мы совсем немного, и тут милиционеры стали свои документы закапывать, снимать форму и убегать по домам. Предатели были кругом. Если бы не предательства, может быть, и победа была бы за нами раньше. Боже мой, а сколько призывников убегало домой! Поймают дезертира – расстреляют. А потом даже перестали их расстреливать. Кто рядом жил, тот и убегал.  * * * Из воспоминаний Николая Осинцева, начальник штаба дивизиона 188-го зенитно-артиллерийского полка РККА:"Война, конечно, не стала для нас полной неожиданностью. Ведь мы все время, пока до этого времени служили, находились в полубоевой такой готовности. Но какая была обстановка в целом перед войной? Летом 1941 года, в ее самом начале, мы стояли на огневых позициях вокруг Минска и частично выезжали на полигон для стрельбы. Бывает, съездим, стрельбы проведем, потом приедем в Минск и там опять на позиции становимся. Так что в казармах в то время мы почти и не жили: так все время крутились. К тому времени, это было в мае 1941 года, наш 188-й зенитно-артиллерийский полк, в котором я был, считался такой солидной частью. Ведь он состоял из пяти дивизионов, а это — шестьдесят штук орудийного состава. Орудия, как я уж сказал, первоначально были 37-ми и 76-ти миллиметровые. Но потом, уже перед самой войной, мы стали получать новые орудия — 85-миллиметровые. Кроме того, каждая батарея, имевшая уже своих четыре орудия, стала тогда получать еще дополнительно по четыре орудия. Между тем транспорта для передвижения материальной части не хватало даже на то, чтобы переправить в нужное место основную ее часть. Мы ее должны были получить только в случае мобилизации. 20-го числа, а не 22-го, всех нас, кто оставался в городке, подняли по боевой тревоге. Мы заняли тогда боевые позиции вокруг Минска. А 22-го числа в 4 часа дня утра услышали звуки: бум-бум-бум-бум. Оказалось, что это немецкая авиация неожиданно налетела на наши аэродромы. Наши самолеты эти свои аэродромы не успели даже сменить и оставались все на своих местах. Их почти всех уничтожили. Насколько мне известно, в первый день войны в приграничной полосе было уничтожено что-то около 200 наших самолетов. Почему мы их не смогли спасти? Потому что, как говориться, на это не было дано соответствующей команды. Аэродромы-то, конечно, были подготовлены для этого. Но так как команды не было, ни один из самолетов не перелетел: остались все на своих местах. Так их там и накрыли поэтому. В то время во всех приграничных округах Советского Союза сложилось такое положение, что никто сверху, ни правительство, ни министр обороны, не давали команды развернуться, выдвинуться на передовые позиции и что-то против немцев решительное предпринять. Ну а дальше-то что было? Помню, с 23-го числа группа немецких самолетов по три, по шесть и по девять штук стали наносить удар по огневым позициям вокруг Минска, которые мы как раз в то время занимали. Мы, конечно, понесли в то время большие потери. Немцы побили у нас и орудия, и машины, и боеприпасы, и все остальное. Но мы все же кое-как привели себя в порядок после этого. Кстати говоря, что мне запомнилось в первые дни войны, так это то, что 23-го числа у нас в Минске не вокзале поймали двух немецких шпионов, которые к нам были заброшены. До этого, пока перед нападением мы служили на границе, у нас и провокаций-то никаких не было. А тут, значит, шпионов нашли. Они были все одеты в нашу форму, и все, понимаете ли, полковниками нарядились. И как только одного этого полковника взяли, так по эмблемам на петлицах на чистую воду его и вывели. Так-то у него все обычно было. Ну полковник - и полковник. Нашивки были — те. А вот эмблемы артиллерийские оказались неправильными. Сразу определили, что форма не совсем та. По ней его и задержали. Он оказался шпионом. Выяснилось, что ночью их выбросили к нам на самолете, и они, значит, за нами шпионили. Ну а что они делали? Они поступали следующим образом. Вот, скажем, если немецкий самолет подходит к какому-то объекту, они пускают ракетницу, тем самым его освещая. То есть, они освещали тот объект, который немцы собирались бомбить. Вот таких шпионов много было в то время. 24-го числа где-то часиков в 11 мы смотрим и видим следующее: идет армада самолетов противника. Оказалось, это на большой высоте шли 42 немецких бомбардировщика, которые возвращались с бомбардировки Минска. Они шли туда с запада, бросили на город, значит, бомбы, и возвращались. Надо отметить, Минск в то время был деревянным городом, и поскольку немцы сбросили на него много зажигательных бомб, он, конечно, весь пылал в огне. Там, где проходили трамвайные линии, в городе уже все поднялось, как говориться. Короче говоря, проехать через Минск сделалось уже невозможным. И мы все, значит, на окраинах вокруг Минска стояли. Так как у нас был малый калибр, мы не могли стрелять по авиации противника, - самолеты были вне зоны нашего действия. А тот полк, в котором я служил раньше, стрелял как раз по этим самолетам. Все наши же действия против самолетов не приносили нам никаких результатов: ни одного самолета за это короткое время мы не сбили. Самолеты, бывает, отбомбятся, проходят, потом разворачиваются дальше и уходят обратно, а мы ничего им сделать не можем". * * * Из дневника ополченца П. П. Пшеничного (Москва): "6 июля. Живу на казарменном положении в здании средней школы по Машкову переулку. Прибыли командиры — выпускники средних военных училищ, все молодежь 20-23 лет. Здесь много сослуживцев — работников Наркомфина СССР, а также бывших работников других предприятий и учреждений района. Началась боевая подготовка — изучение уставов и наставлений. Затем откуда-то была извлечена старая винтовка системы "лебель", по которой ополченцы начали изучать материальную часть оружия. Период между 6-12 июля является организационным. Обнаружилось при этом много непродуманного, хаотичного, непонятного. 12 июля. В 17.00 последовала команда построить роты с вещами, при этом приказали быть налегке, не брать с собой много вещей. Потом из-за этой глупой команды мы начали страдать от холодных ночей, так как не взяли с собой пальто, шинели, плащи; страдали от грязи, так как не имели смены белья. 14 июля. Не доезжая Вязьмы, свернули с шоссе в ближайший кустарник, замаскировали автомашины... Чувствуется, что командование либо не знает твердо своего маршрута, либо заблудилось. Наконец наше движение началось опять на юго-запад, то есть в обратном направлении... 15 июля. Едем по Смоленской области, по населенным пунктам реки Днепр. Ночью разгрузились, устроили шалаши. Ночью же выстроили 150 человек ополченцев, и выяснилось, что только 30 человек умеют стрелять из винтовки... 16 июля. Начались земляные работы широкого масштаба по восточному берегу Днепра. Люди из наркоматов и канцелярий, не привыкшие к физическому труду, начали болеть, но постепенно втянулись в рытье противотанковых рвов и траншей. Наблюдаем бесконечное движение людского потока на восток с имуществом и детьми на возах, а по обочинам дорог плетется измученный и голодный скот из смоленских колхозов".  * * * Из дневника И. А. Бунина (Ницца): "21 июня (суббота). Везде тревога: Германия хочет напасть на Россию? Финляндия эвакуирует из городов женщин и детей... Фронт против России от Мурманска до Черного моря? Не верю, чтобы Германия пошла на такую страшную авантюру. Хотя черт его знает. Для Германии или теперь или никогда - Россия бешено готовится. В городе купили швейцарские газеты: "отношения между Герм. и Россией вступили в особенно острую фазу". Неужели дело идет всерьез? 22 июня. С новой страницы пишу продолжение этого дня - великое событие - Германия нынче утром объявила войну России - и финны и румыны уже "вторглись" в "пределы" ее. 23 июня. В газетах новость пока одна, заявление наступающих на Россию: это "la guerre sainte pour preserver la civilisation mondiale du danger mortel di bolchevisme" («Святая война во имя спасения мировой цивилизации от смертельной угрозы большевизма»). Радио в 2 часа дня: Англия вступила в военный союз с Россией. А что же Турция? Пишут, что она останется только "зрительницей событий". 24 июня. Утром в газетах первое русское военное сообщение: будто бы русские уже бьют немцев. Но и немцы говорят, что бьют русских.(…) Итак, пошли на войну с Россией: немцы, финны, итальянцы, словаки, венгры, албанцы (!) и румыны. И все говорят, что это священная война против коммунизма. Как поздно опомнились! Почти 23 года терпели его! Швейцарские газеты уже неинтересно читать. В двенадцатом часу полиция. Рустан с каким-то другим. Опрос насчет нас трех мужчин, кто мы такие, т. е. какие именно мы русские. Всем трем арест при полиции на сутки - меня освободили по болезни. Произвели осмотр моей комнаты. Во втором часу радио: Франция прервала дипломат. отношения с Россией ввиду ее мировой коммунистич. опасности. На душе гадко до тошноты. Слухи из Парижа, что арестован Маклаков (как и все, думаю). Радио - немцы сообщают, что взят Львов и что вообще идет разгром "красных". Поздно вечером вернулись М. и Г., ходившие в полицию на свидание с 3. и Б., которым отнесли кое-что из еды и для спанья. Оказалось, что всех арестованных русских (вероятно, человек 200-300) отвезли за город в казармы; М. и Г. пошли туда и видели во дворе казармы длинную вереницу несчастных, пришибленных (и в большинстве оборванных) людей под охраной жандармов. Видели Самойлова, Федорова, Тюкова, взятых с их ферм, брошенных у некоторых, несемейных, на полный произвол судьбы со всеми курами, свиньями, со всем хозяйством. Жестокое и, главное, бессмысленное дело. 1 июля. Вера бегала в город покупать кое-что для наших узников, потом была в казарме (это километров 5, 6 от города туда и назад). Видела 3. и Б. Они ночевали на полу, вповалку со множеством прочих. Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится. Желтоватая, уже светящаяся половина молодого месяца. Да, опять "Окаянные дни"! 2 июля. В 9 телеграмма М. от кого-то. Г. вошла, прося 5 фр. для телеграфн. мальчишки и сказала, что сами русские только что объявили, что они сдали Ригу и Мурманск. Верно, царству Сталина скоро конец. Киев, вероятно, возьмут через неделю, через две. 3 июля. Часов в 8 вечера вернулись из казарм Бахр. и Зуров. Там было все-таки тяжело - грязь, клопы; спали в одной камере (правда, большой) человек 30. Сидели и ждали опросов. Но никто ничего не спрашивал. А нынче вдруг приехала какая-то комиссия, на паспортах у всех поставила пропуск и распустила всех. Глупо и безобразно на редкость. 13 июля. Взят Витебск. Больно. Как взяли Витебск? В каком виде? Ничего не знаем! Все сообщения - с обеих сторон - довольно лживы, хвастливы, русские даются нам в извращенном и сокращенном виде. Генерал Свечин говорил, что многие из Общевоинского Союза предложили себя на службу в окуп. немцами места в России. Народу- полно. Страстн. аплодисм. при словах о гибели большевиков. Немцы говорят, что уже совсем разгромили врага, что взятие Киева - "вопрос нескольких часов". Идут и на Петербург. |
 |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|