
 |
|
#1
|
||||
|
||||
|
http://www.kommersant.ru/doc/1767092
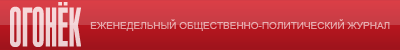 Журнал "Огонёк", №37 (5196), 19.09.2011 Чем отличаются права гражданина от прав человека, а равенство — от справедливости? О спорах на Ярославском политическом форуме  Свое выступление на форуме в Ярославле Дмитрий Медведев посвятил социальному многообразию и виртуальным сообществам.Некоторые с ним поспорили,но в кулуарах. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Миграция и этнические проблемы, права гражданина и человека, справедливость и равенство — на политическом форуме в Ярославле об этом говорили порой слишком остро и открыто Скажу сразу: кризис политики мультикультурализма признавали практически все участники, хотя некоторые подчеркивали, что он обусловлен не столько внутренними пороками этой доктрины, сколько формами ее претворения в жизнь. Многие выступающие отмечали, что тезис о равенстве культур противоречит объективным историческим реалиям и не должен применяться для разрушения сильных культурных традиций там, где они существуют. Иногда звучали призывы к пересмотру либеральных принципов миграционной политики и возврату к жестким ассимиляционным практикам. В обсуждениях на эту тему с равной частотой вспоминались европейские и российские примеры, подтверждавшие, по мнению выступавших, "всеобщий" характер кризиса мультикультурной модели. На мой взгляд, данную тему не стоит рассматривать как "реанимирование национального вопроса". Проблема существует, и ее нельзя не замечать. Состоит она прежде всего в том, что групповая солидарность может сочетаться с демократическими ценностями только до тех пор, пока она складывается вокруг подвижных и меняющихся оснований. Одно дело — сплоченно выступать против налоговой реформы и совсем другое — объединяться по принципу веры или национального происхождения. В первом случае выбор основан на рациональных соображениях, во втором — на первичных общественных признаках. В первом случае позиции человека могут меняться в зависимости от обстоятельств, во втором — скорее всего они будут оставаться неизменными. В первом случае большинство может со временем стать меньшинством, и наоборот, во втором — нет. Кроме того, не стоит забывать, что главный принцип демократии, "один человек — один голос", в данном случае принижается, так как субъектом становится группа, к тому же меньшинства получают особые права, которые не требуют их подчинения большинству. Иначе говоря, тезисы о равенстве культур и об особых политических правах меньшинств противоречат основам либеральной демократии. В Ярославле об этом говорилось открыто, хотя в Европе подобные заявления довольно редки. Если общение российских и западных политологов несколько ослабит давление на умы пресловутой политкорректности, думаю, будет только лучше. На форуме много говорилось и о том, почему идея прав групп получила в последние десятилетия столь широкое распространение. С одной стороны, его причиной назывались попытки европейцев (вслед за США с их политикой "утверждающих действий") искупить грехи колониального прошлого — ведь ни для кого не секрет, что во Франции, в Голландии, Великобритании и ряде других стран значительная часть мигрантов происходит из их бывших колоний. С другой стороны, указывалось на утрату связи между понятиями прав человека и прав гражданина, в результате чего право на свободу передвижения или на получение убежища незаметно трансформировалось в возможность получения социальных пособий, жилья, выплат по безработице и многого чего еще. На мой взгляд, эти мнения могут стать важным шагом на пути осознания, с одной стороны, различий между правами граждан и правами жителей, а с другой — между правами граждан и правами групп. Права граждан вытекают из их участия в истории формирования и развития обществ, в которых они живут. Права иммигрантов — из экономической вовлеченности в эти общества и доктрины прав человека. Права граждан могут быть политическими и экономическими, тогда как права жителей и их групп — экономическими и культурными. Идеи мультикультурализма обесценивают идею гражданства как качества, приобретаемого вследствие жизни в определенном обществе, и безосновательно завышают самооценку представителей меньшинств. И то и другое вызывает — и будет вызывать — резкие реакции. Задача современного государства — не принижая значения культурных ценностей и этнических традиций, отвергнуть претензии каких бы то ни было групп на исключительность и противостоять мультикультурализу как инструменту утверждения "позитивного неравенства". Неравенство не может быть позитивным. Более 100 лет все развитые государства в той или иной мере стремятся его преодолевать. Введено всеобщее избирательное право. Создана система социальной защиты и социального обеспечения. Утверждена независимость государства от церкви. Признаны даже однополые брачные союзы. Возрождать неравенство, тем более основанное на первичных признаках, значит идти назад. Скептическое отношение к радикальным формам мультикультурализма, по мнению участников, не означает отрицания культурного многообразия. Государство не может мешать организации обучения на языках живущих в его границах меньшинств, строительству храмов любых конфессий, но не обязано это оплачивать. Настаивать на отрицании традиций и идентичностей мигрантов у нас нет оснований, но отступать ради уважения к ним от юридических норм и от собственных принципов мы не имеем права. Совершенно правы, по моему мнению, были те участники, кто говорил: мультикультурализм особенно активно развивается там, где у большинства нет сильных культурных традиций, нет прочной основы для собственной идентичности. Постоянно подчеркивалось, что миграция — одна из черт современного мира. В многонациональных государствах, таких как Российская Федерация, или в наднациональных образованиях, таких как Европейский союз, внутренняя миграция стала неотъемлемым правом граждан. Однако это не значит, что экономическая иммиграция из-за пределов этих образований должна иметь необратимый характер. Можно не препятствовать жителям других стран приезжать в более развитые государства и искать там работу. Но следует ли позволять им "воссоединяться" с семьями, обеспечивать пособиями, давать социальное жилье? Нужно помочь пережить тяжелые времена тем, кто спасается от гражданской войны или геноцида. Но следует ли давать возможность навсегда остаться в чужой стране? На форуме подчеркивалось, что негативный образ миграции во многом порожден тем, что права человека смешиваются с правами гражданина, хотя миграция должна быть организована так, чтобы сочетать уважение к прибывшим с их толерантностью в отношении устоев страны пребывания. В создании данных условий — залог гармоничного общества, культурно и этнически многообразного, но не "мультикультурного". В качестве варианта движения вперед многие участники форума — и хочу с радостью отметить, прежде всего российские — предлагали путь построения подлинно гражданской нации: нации, в которой нет привилегированных этнических групп и анклавов, в которых не действуют законы страны; нации, в которой достижения человека обусловлены прежде всего и исключительно его способностями и трудом. Я полностью солидарен с тем, что современные государства должны придерживаться либерального демократического принципа своей организации. Они должны строиться на единстве прав, а не на "дружбе народов". Мы помним, что произошло 20 лет назад со страной, в которой название валюты было написано на 15 языках куда раньше, чем на евро. Сегодня для государства недопустимо искать "баланса идентичностей", основанных на этнических, культурных или религиозных принципах. Примечательно, что одним из главных центров напряженности в России является в наши дни Дагестан, где все 1990-е годы прошли в поиске баланса привилегий между представителями десятков народностей, населяющих республику при полном пренебрежении к российским законам. С форума я вынес твердое убеждение: подлинно современное государство может быть построено только в условиях формирования единой гражданской нации: российской ли или, не побоюсь этого, общеевропейской. Гражданской нации, в которой права должны предполагать обязанности и обусловливаться их исполнением. Вторая проблема — материальное неравенство и неравный доступ к социальным благам — также обсуждалась крайне активно, хотя оснований для консенсуса в данном случае было заметно меньше. Большинство участников высказывали довольно традиционные суждения относительно необходимости избегать предельных форм социальной и имущественной поляризации, справедливо отмечая, что напряженность в многообразных обществах возникает не только вокруг этнических и религиозных различий, но и в связи с очевидно несправедливым распределением материальных благ, "капсулированием" богатства и бедности в специальных анклавах и гетто, что при ряде условий может привести к всплеску общественного протеста в весьма радикальных формах. В то же время выход на путях утверждения большего равенства видится мне хотя и идеальным, но труднореализуемым. Современная экономика, что бы о ней ни говорили, стремительно становится, с одной стороны, экономикой высокотехнологичной, в которой особую ценность приобретают уникальные знания и умения, а с другой — экономикой "нишевой", в которой самые высокие прибыли приносит умелое позиционирование в качестве производителей не массовых, а, напротив, крайне индивидуализированных благ. В таких условиях доходы людей, обладающих высокой степенью квалификации и особыми способностями, будут объективно расти, в то время как массовый труд в глобализирующемся мире неизбежно будет дешеветь. Собственно, этот факт и приводит к обостренному ощущению проблемы: мигранты, большинство которых приезжает на заработки в массовом секторе, смогут в перспективе рассчитывать на все меньшие доходы, тогда как представители глобализированной элиты будут получать все больше. Остановить этот процесс невозможно — сегодня общество, в котором нет своих Стивов Джобсов и Ричардов Брэнсонов, не имеет будущего. Именно поэтому сегодня требование равенства выступает крайне опасным для успешного экономического развития, но неравенство, увы, выглядит столь же потенциально взрывоопасным, как и раньше. Из этого противоречия сложно найти выход. В то же время на форуме подчеркивалось — хотя и эпизодически — что новое неравенство выглядит более справедливым, чем раньше, так как в значительной мере обусловлено не статусом человека, а его способностями и личными достижениями, его талантами и образованностью. Я могу сказать даже более резко, что делал и раньше: в новом мире XXI века неравенство в существенной мере не может больше считаться несправедливым. Этот факт имеет огромное значение для всей обществоведческой дискуссии, но сейчас еще не осмыслен должным образом. Требования справедливости в наш век не могут сводиться к требованиям равенства. Это очень важный момент. С одной стороны, он затрудняет выработку воспринимаемой большинством членов общества позитивной повестки дня, но с другой — дает возможность переосмыслить современные системы социального обеспечения и, возможно, ограничить наращивание социальных расходов, уже сейчас выглядящих чрезмерными во многих странах мира. На мой взгляд, нарастание неравенства на фоне миграционных процессов и формирования культурно многообразных обществ требует перенесения акцента не только с равенства на справедливость, но и с распределения материальных благ на социальную солидарность. Общество не столько должно гарантировать минимальное социальное обеспечение, сколько быть готово прийти на помощь особо нуждающимся в поддержке — но, видимо, избирательно, а не на универсальной основе. В индивидуализирующемся обществе не остается места всеобщим социальным мерам поддержки, но принцип готовности прийти на помощь должен сохраняться. Сформировать общественный консенсус по этому поводу будет крайне трудно, но без его появления всем современным государствам придется очень и очень сложно. При обсуждении как первой, так и второй из основных тем на форуме прослеживались трения между требованиями политкорректности и стремлением обратиться к сути проблем. Мне кажется, что формирование нового языка общения между социологами — языка, позволяющего прямо и открыто ставить и решать сложные вопросы нашего времени — является сегодня одной из самых острых проблем. Это, разумеется, не означает, что пришло время всепроникающего цинизма, но в мире есть проблемы, которые нельзя не видеть и которые не следует камуфлировать. Автор — доктор экономических наук, руководитель Исполнительной дирекции III Мирового политического форума Содержание темы: 01 страница #01. Владислав Иноземцев. Равенство не значит справедливость. 20.09.2011, 10:27 #02. Владислав Иноземцев. Вся надежда – на третий срок (2) #03. Владислав Иноземцев. «Неединая Россия» должна стать идеологией оппозиции #04. Владислав Иноземцев. Пока не пошли вожди #05. Владислав Иноземцев. Мат в два года #06. Владислав Иноземцев. Элита сумасшедшего дома #07. Владислав Иноземцев. Безумие «имперской интеграции» #08. Владислав Иноземцев. Последний год экономического роста #09. Михаил Делягин. Либеральный экономист публично плюнул на могилу конструктора Калашникова #10. Владислав Иноземцев. Злейшие друзья и лучшие враги 02 страница #11. Владислав Иноземцев. Общество любителей консервации #12. Владислав Иноземцев. Помощники Америки #13. Владислав Иноземцев. Россия без налогов #14. Владислав Иноземцев. Россия угрожает самой себе #15. Владислав Иноземцев. Чем угрожает России гражданская война на Украине #16. Владислав Иноземцев. Россия «в тылу врага» #17. Владислав Иноземцев. Игральная карта мира #18. Владислав Иноземцев. Никаких гарантий #19. Владислав Иноземцев. Тайная собственность должна стать явной 28.09.2015 #20. Владислав Иноземцев. Народный изгнанник 03 страница #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. #01. Владислав Иноземцев. Последний раз редактировалось Chugunka; 05.05.2024 в 03:53. |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|