
 |
|
#601
|
||||
|
||||
|
http://worldcrisis.ru/crisis/188291
Для понимания дальнейшего, необходимо несколько слов сказать о том, в каком смысле ниже используется слово «независимость» в приложении к экономике государства. Это не значит, что государство экономически не взаимодействует с другими, и даже то, что доля внешней торговли в общем экономическом балансе занимает скромное место. В этом тексте независимость (и, как не совсем точный синоним – самодостаточность) означает, что у экономики есть независимое от внешних факторов ядро, которое, во-первых, содержит все (или почти все, за исключением непринципиальных) отрасли экономики, во-вторых, во всех из них находится на передовых (или может выйти на них за достаточно ограниченное время) мировых позициях, и, в-третьих, может без ущерба развиваться достаточно существенное время даже в случае полного закрытия всей внешней торговли. Разумеется, в долгосрочном плане такая изоляция неполезна, однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе она, для независимой экономики, не должна стать катастрофой. При этом роль внешней торговли может быть достаточно большой, например, именно она может обеспечивать существенное повышение жизненного уровня населения по равнению с изоляционным сценарием. В качестве примере можно привести США, которые уже довольно давно не производят носки и закупают их в Китае. С одной стороны это позволяет повысить жизненный уровень населения, с другой – носки не такой уж принципиальный товар, без собственного производства которого экономика прожить не может. Но в других случаях, для более важных отраслей, государство должно жестко отслеживать, чтобы импортные товары не разрушили их стабильное существование и развитие. Отметим также, что реально независимое государство не может не иметь независимой экономики, но обратное, вообще говоря, может быть и неверно. В ранние Средние века независимым государством могло стать владение практически любого феодала. Сам он сидел в своем замке на холме, в одной его деревушке был кузнец, в другой – коновал (знахарь), в третьей – плотник. А добавочного продукта этих трех деревень хватало на то, чтобы наш феодал мог кормить небольшую дружину, с которой совершать набеги на соседнего, отбирая у того пару серебряных подсвечников, которые его отец отобрал у отца нашего лет за двадцать до того. И в каждой его деревне было по одному мастеру, который делал по 4 телеги в год – одну телегу за три месяца. И этого количества как раз хватало для удовлетворения потребностей всех жителей «государства», принадлежащего нашему феодалу. Так продолжалось из года в год, из десятилетия в десятилетие, пока в какой-то момент, три наших тележных мастера не встретились случайно в церкви и не решили разделить обязанности – один будет делать колеса, другой – кузов, а третий – передок (в который лошадь впрягают). И после такого разделения они все вместе стали за три месяца делать не три, а аж целых четыре телеги! И что с этой четвертой телегой делать? Населению нашего «государства» из трех деревень она, по большому счету, не нужна. Можно, конечно, ее кому-нибудь подарить, но как компенсировать затраченные материалы? Можно попытаться оставить «про запас», но куда складывать эти телеги, когда их станет достаточно много? Можно, наконец, ее просто не делать, а в свободное время отдыхать или молиться. Проблема только в одном. Кто-то из феодалов все-таки свою «лишнюю» телегу куда-то за пределы своего «государства» продал, а на вырученные деньги его мастера купили железо и научились делать металлические рессоры – из-за чего их телеги стали куда более популярными. В этой ситуации наш феодал просто вынужден готовить свою дружину к походу – но не ради того, чтобы бессмысленно тешить удаль молодецкую, а для того, чтобы «впарить» свою лишнюю телегу подданным своего соседа, чье «государство» в результате этого процесса становится уже не совсем «независимым». Поскольку собственное производство телег в нем становится нерентабельным и соответствующую отрасль его «экономика» теряет. Если описать приведенную выше романтическую историю с экономической точки зрения, то можно отметить следующее. Во-первых, углубление процесса разделения труда приводит к повышению производительности труда. Во-вторых, это повышение автоматически требует увеличения объемов рынков сбыта. В-третьих, потеря своих рынков ведет к быстрой утрате независимости, а отказ от их увеличения – к медленной, поскольку утрачивается ресурс для технического совершенствования. Разумеется, описанные выше процессы в реальности значительно сложнее. Например, наш феодал может обнаружить под холмом, на котором стоит его замок, месторождение железа, за счет которого компенсировать нехватку внешних рынков для продукции своего государства, он может ограбить соседний монастырь или купеческий караван и так далее, однако на общей тенденции это принципиально не отразится. Если обратиться к реальной истории, то к началу ХХ века объем рынка, который было необходимо контролировать по настоящему независимому государству, составлял где-то около 50 миллионов потребителей. В этот момент в Европе осталось только 5-6 реально независимых, имеющих самодостаточную экономику, государств. Российская империя, Германская, Австро-Венгрия, Франция, Великобритания и, возможно, Испания. Все остальные страны не были независимыми в том смысле, что для обеспечения своим гражданам нормального и адекватного мировым лидерам потребления они неизбежно должны были присоединиться в качестве сателлитов или «младших» партнеров к объединениям, возглавляемым одной из перечисленных стран. Собственно говоря, даже сами эти страны понимали сложность ситуации и некоторые из них объединялись друг с другом (правда, на основе равноправного партнерства) с целью усилить собственные экономики. К середине ХХ века объем рынков, который было необходимо контролировать стране для обеспечения самодостаточной и развивающейся экономики, достиг величины порядка 500 миллионов человек. В этот момент по настоящему независимыми и лидерами крупных межстрановых объединений, могли быть не более 2 государства. Их и было два: СССР и США. Отметим, что Китай и Индия на тот момент можно было не принимать во внимание – они не были потребительскими рынками в современном понимании этого слова, их экономики во многом носила натуральный характер. Однако мировая экономика продолжала развиваться и к концу третьей четверти ХХ века объемы рынков, необходимые для нормального развития самодостаточной экономики достигли величины порядка миллиарда человек... И стало понятно, что в мире (разумеется, при сохранении парадигмы мирового развития, условии, как понятно сегодня, не такого уж тривиального) может остаться только одно независимое государство. Как это обычно и бывает в истории, однозначного ответа на вопрос о том, какое это будет государство, история не дала (хотя это утверждение и не понравится апологетам нынешних США). Здесь, на сайте www.worldcrisis.ru, много говорилось об отказе властей СССР от проектных принципов «Красного» проекта со второй половины 50-х годов. Однако те люди, которые возглавляли Политбюро ЦК КПСС в 70-е годы, были воспитаны еще в период господства этих принципов, и именно перед ними встал вопрос о том, нужно ли форсировать разрушение «западной» экономики и США после катастрофического «нефтяного» кризиса 1973 года. Я достаточно много сил потратил на то, чтобы разобраться в том, был ли это вопрос сформулирован в явном виде и какой на него был дан ответ. Это расследование (которое состояло в беседах с бывшими высокопоставленными функционерами ЦК КПСС и КГБ СССР) показало следующее. Во-первых, вопрос был поставлен. Во-вторых, ответ на него был сведен к двум значительно более простым, а главное, технологическим проблемам. Одна из них касалась возможностей СССР по прямому контролю тех территорий, входивших на тот период в зону влияния США и в которых, после распада «суверена», неминуемо должны были начаться неконтролируемые, во многом, разрушительные и опасные для всего мира процессы. Вторая касалась готовности СССР оказаться один на один с Китаем, который к тому времени уже начал технологическую революцию. Ответы на оба эти вопроса оказались отрицательными – руководители страны пришли к выводу, что СССР не имел возможности непосредственно контролировать почти половину мира, скатывающуюся к тоталитаризму, разгулу терроризма и анархии и одновременно ограничивать растущие возможности Китая. Как следствие, СССР пошел в дальнейшем на переговоры с США и начал процесс, который позже получил название «разрядка». Поскольку, как уже отмечалось выше, гибель одной из сверхдержав (то есть переход к единственному в мире независимому государству) была предопределена объективным развитием экономической ситуации, США менее чем через 10 лет столкнулись с тем же самым вопросом, и решили его принципиально иначе. Связано это, скорее всего, со спецификой философии прагматизма, чрезвычайно распространенной в США, но, с точки зрения окончательного результат, это не принципиально. На практике США решили сначала разрушить СССР, а потом начать разбираться с возникающими проблемами. Которые, как мы сегодня видим, оказались ровно теми же самыми, решения которых не могли найти руководители Советского Союза. Собственно говоря, с моей личной точки зрения, США так и не смогли (и уже не смогут) решить поставленные вопросы – что уже достаточно скоро станет понятно всем. Исчезновение СССР вынудило США непосредственно контролировать его бывшую сферу влияния, и с этой работой они явно не справляются. Резкий рост терроризма, который, кстати, был создан и развит самими сверхдержавами в рамках противоборства друг с другом и потеря контроля над ним связан как раз с разрушением системы мирового паритета и «Ялтинской» системы. А уж последующий рост роли Исламского глобального проекта уж точно стал следствием исчезновения СССР (из чего не следует, что такого роста бы не было при ином развитии ситуации. Другое дело, что скорость этого роста могла бы быть существенно более низкой). Про кризис экономики США я даже говорить не буду – значительная часть сайта (и нашей с А.Кобяковым книги) посвящена тому, насколько необходимость «освоить» экономическую зону бывшего социалистического Содружества ускорила экономический кризис «Западного» глобального проекта. Что касается противостояния с Китаем – пока США держатся ... Однако есть очень много аргументов в пользу того, что в конце концов Китай победит. Доказать это сейчас невозможно – но в любом случае, не вызывает сомнений, что те члены Политбюро ЦК КПСС, которые оценивали ситуацию 30 лет назад, оказались чрезвычайно адекватны ситуации... Отметим, что общая конфигурация мировой экономики за последние 30 лет существенно изменилась. Переход Юго-Восточной Азии и Индии к индустриальной парадигме существенно изменил объемы мировых рынков, что не только позволило возникнуть новым независимым государствам, но и обеспечило новый рывок в углублении мирового разделения труда, который еще более увеличил «порог независимости». Настала пора перейти к выводам. Главный из них состоит в следующем: если современная финансово-экономическая парадигма не изменится, то независимым государством может быть только то, которое контролирует (уже) не менее 1.5 миллиарда человек. В мире сегодня есть только два государства, которые имеют (или в скором будущем могут получить) такие собственные рынки: Китай и Индия. США могли бы сохранить в среднесрочной перспективе свою независимость при условии, что они оставили бы под своим контролем рынки Европы и Латинской Америки. Однако экономические проблемы (возникшие, как мы помним, по итогам распада СССР) США вызвали необходимость привлечения дополнительных ресурсов со всего мира, в частности, за счет бывших союзников. Достаточно упомянуть череду экономических катастроф в странах Латинской Америки, выполняющих условиях МВФ (Эквадор, Аргентина и т.д.). В результате, отношения США с этими регионами существенно ухудшилось, и в рамках договорного процесса они могут и не достичь результатов, необходимых для дальнейшего продолжения экономического развития. Что касается западной Европы, то у нее есть шанс, однако он связан с развитием аналогичных договорных отношений, прежде всего, с Россией. А для этого, как показывает опыт последних лет, Европе нужно серьезно отойти от парадигмы «Западного» глобального проекта, с его отказом от библейских ценностей... Здесь следует отметить еще одно обстоятельство: те, кто предлагает для России варианты технологической модернизации (и объясняет, какие условия для этого необходимо обеспечить) совершает заведомый подлог. Даже СССР, даже все социалистическое Содружество уже 10 лет назад не могли обеспечить для себя нормального экономического развития – поскольку не обладали рынками сбыта соответствующего масштаба. Говорить о том, что такого результата может достичь современная, маленькая Россия просто наивно. Значит речь идет не о «модернизации России», а о включении России (уже не как независимого государства) в систему рынков в рамках сателлитов другого независимого государства. С другой стороны, избежать включения в систему мирового разделения труда Россия просто не может. Поэтому вопрос идет не о том, можно ли избежать вступления в ВТО (Киотский протокол, МВФ и т.д.), а о том, как даже в рамках этих организаций сохранить некоторый минимум независимости, который бы позволил (в случае существенного изменения мировой ситуации) начать реализацию программы национального (или проектного) возрождения. Технологически это возможно сделать только за счет очень тонкого балансирования между основными современными центрами силы: США, Европой, Китаем, Индией, исламским миром. А вот переговоры по нашему вступлению в ВТО, к сожалению, ведут явные сторонники США, что вряд ли приведет к необходимому эффекту ... Отметим, что экономические проблемы «Запада» и явная экспансия Исламского глобального проекта, дают еще один вариант развития ситуации – разрушения существующей (и единственной) финансово-экономичской парадигмы, мировой системы разделения труда. Этот вариант позволяет вернуться к ситуации множественности независимых государств и значительно более богатому мировому политическому спектру, однако неминуемо влечет за собой резкое падение уровня технологического развития человечества и уровня жизни населения планеты. |
|
#602
|
||||
|
||||
|
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%...E_%D1%D1%D1%D0
Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 ноября 2011; проверки требуют 11 правок. Сельское хозяйство СССР — сельское хозяйство Советского Союза, отрасль экономики СССР. Сельское хозяйство занимало второе место (после промышленности) в производстве валового общественного продукта и национального дохода СССР. В начале 1980-х СССР занимал 1-е место в мире по производству пшеницы, ржи, ячменя, сахарной свёклы, картофеля, подсолнечника, хлопка, молока, 2-е по поголовью овец, 3-е — по общему объёму производства сельскохозяйственной продукции, поголовью крупного рогатого скота, сбору зерна. Численность занятых в сельском хозяйстве (1985) составляла около 28 млн человек (около 20 % занятых в народном хозяйстве СССР). СССР также являлся крупным экспортёром многих видов сельскохозяйственных продуктов (зерна, хлопка, растит. и животного масла, пушно-мехового сырья и др.). Содержание 1 Структура отрасли 2 Отрасли сельского хозяйства СССР 2.1 Растениеводство 2.2 Животноводство 3 См.также 4 Примечания 5 Ссылки Структура отрасли В сельском хозяйстве СССР выделялись два основных производственных сектора: государственный (совхозы, племенные и конные заводы, птицефабрики, учебно-опытные и экспериментальные хозяйства и т. д.) кооперативный (колхозы, межколхозные предприятия, межколхозные объединения) На конец 1974 было 17,7 тыс. совхозов и 30 тыс. колхозов, которые являлись основными производителями сельскохозяйственной продукции и обеспечивали государственные закупки зерна, хлопка-сырца, сахарной свёклы, подсолнечника на 100%, картофеля — на 82%, овощей — на 94%, скота и птицы — на 87%, молока — на 95%, яиц — на 93%, шерсти — на 84%. В пользовании с.-х. предприятий и хозяйств на 1 ноября 1974 находилось 551,5 млн. га с.-х. угодий, в том числе 225,3 млн. га пашни, 38,3 млн. га сенокосов, 281,8 млн. га пастбищ.[1] Некоторые сельскохозяйственные продукты (картофель, овощи, продукция животноводства) производились также в подсобных хозяйствах, в основном для личного потребления. Отрасли сельского хозяйства СССР В валовой продукции сельского хозяйства СССР в 1986 году на долю растениеводства приходилось 45 %, животноводства — 55 %. Растениеводство Продукция растениеводства по годам (млн.тонн)[2] Годы Зерновые культуры Хлопок-сырец Сахарная свёкла 1913 92,3 0,42 11,3 1940 95,6 2,24 18,0 1945 47,3 1,16 5,5 1950 81,2 3,5 20,8 1960 125,5 4,29 57,7 1965 121,1 5,66 72,3 1970 186,8 6,89 78,3 1986 210,0 8,3 79,3 Сельскохозяйственные угодья занимают (по состоянию на 1986 год) 559 млн га, в том числе: пашня — 227,4 млн га, сенокосы — 33,7, пастбища — 292,8. Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур — 210,3 млн га, из них: зерновые культуры — 116,5 млн га, кормовые — 71,4, технические — 13,7, картофель и овоще-баштанные культуры — 8,7. В структуре посевных площадей зерновых культур в СССР преобладала пшеница — 55,3 % (1970 год), ячмень — 17,0 %, рожь — 8,5 %, овёс — 7,8 %, зернобобовые — 4,3 %, просо, гречиха — 3,9 %, кукуруза — 2,9 %, рис — 0,3 %. В структуре посевных площадей технических культур: подсолнечник — 33,0 %, сахарная свёкла — 23,2 %, хлопчатник — 19,0 %, лён-долгунец — 8,8 %, конопля — 1,4 %, другие — 14,6 %. Основная продукция: зерно (РСФСР — почти 3/5 валового сбора, УССР — больше 1/5, Казахстан — свыше 1/8). По производству хлопка-сырца выделяются республики Средней Азии — почти 9/10 валового сбора (особенно Узбекистан — около 2/3), сахарной свёклы — Украина (свыше 1/2) и РСФСР (свыше 1/3), льноволокна (в 1986 году произведено 366 тыс. тонн) — РСФСР (свыше 1/3), УССР (около 1/3) и Белоруссия (свыше 1/4), семян подсолнечника (произведено 5,3 млн тонн) — РСФСР (около 1/2), УССР (около 1/2), картофеля (произведено 87,2 млн тонн), овощей (произведено в 1970 году — 21,2 млн тонн). Животноводство Поголовье птицы (1986 год) — 1174,2 млн голов. Производство яиц (1986 год) — 80,7 млрд штук, шерсти — 469,1 тыс. тонн. Графики по показателям развития животноводства СССР      Продукция животноводства по годам Годы Крупный рогатый скот (млн.голов) в том числе коровы (млн.голов) Свиньи (млн.голов) Овцы (млн.голов) Козы (млн.голов) Лошади (млн.голов) Производство мяса (в убойном весе — млн.тонн) Производство молока (млн.тонн) 1916 58.4 28.8 23 89.7 6.6 38.2 5 29.4 1941 54.8 28 27.6 80 11.7 21.1 4.7 33.6 1946 47.6 22.9 10.6 58.5 11.5 10.7 2.6 26.4 1947 47 23 8.7 57.7 11.6 10.9 1948 50.1 23.8 9.7 63.3 13.5 11 1949 54.8 24.2 15.2 70.4 15.2 11.8 1950 58.1 24.6 22.2 77.6 16 12.7 1951 57.1 24.3 24.4 82.6 16.4 13.8 35.3 1952 58.8 24.9 27.1 90.5 17.1 14.7 1953 56.6 24.3 28.5 94.3 15.6 15.3 1954 55.8 25.2 33.3 99.8 15.7 15.3 1955 56.7 26.4 30.9 99 14 14.2 1956 58.8 27.7 34 103.3 12.9 13 1957 61.4 29 40.8 108.2 11.6 12.4 1958 66.8 31.4 44.3 120.2 9.9 11.9 1959 70.8 33.3 48.7 129.9 9.3 11.5 1960 74.2 33.9 53.4 136.1 7.9 11 1961 75.8 34.8 58.7 133 7.3 9.9 8.7 61.7 1962 82.1 36.3 66.7 137.5 7 9.4 1963 87 38 70 139.7 6.7 9.1 1964 85.4 38.3 40.9 133.9 5.6 8.5 1965 87.2 38.8 52.8 125.2 5.5 7.9 1966 93.4 40.1 59.6 129.8 5.5 8 10 72.6 1967 97.1 41.2 58 135.5 5.5 8 1968 97.2 41.6 50.9 138.4 5.6 8 1969 95.7 41.2 49 140.6 5.5 8 1970 95.2 40.5 56.1 130.7 5.1 7.5 1971 99.2 39.8 67.5 138 5.4 7.4 12.3 83 1972 102.4 40 71.4 139.9 5.4 7.3 1973 104 40.6 66.6 139.1 5.6 7.1 1974 106.3 41.4 70 142.6 5.9 6.8 1975 109.1 41.9 72.3 145.3 5.9 6.8 1976 111 41.9 57.9 141.4 5.7 6.4 91 1977 110.3 42 63.1 139.8 5.5 6 1978 112.7 42.6 70.5 141 5.6 5.8 1979 114,1 43 73,5 142,6 5,5 5,7 1980 115,1 43,3 73,9 143,6 5,8 5,6 1981 115,1 43,4 73,4 141,6 5,9 5,6 91 1982 115,9 43,7 73,3 142,4 6,1 5,6 1983 117,2 43,8 76,7 142,2 6,3 5,6 1984 119,6 43,9 78,7 145,3 6,5 5,7 1985 121 43.6 77.9 142.9 6.3 5.8 1986 120.9 42.9 77.8 140.8 6.5 5.8 1987 122.1 42.4 79.5 142.2 6.5 5.9 18.1 102.2 1988 120.6 42 77.4 140.8 6.5 5.9 1989 119.6 41.8 78.1 140.7 6.8 5.9 107 1990 118.4 41.7 79 138.4 7 5.9 1991 115.7 41.5 75.6 133.3 7.3 5.9 См.также Освоение целины «Рязанское чудо» Сельское хозяйство России Сельское хозяйство Русского Царства Примечания ↑ Сельское хозяйство СССР ↑ 1913_2 Ссылки Сельское хозяйство России в XX веке (Сборник статистико-экономических сведений за 1901-1922 гг.) Издательство Наркозема "Новая деревня", Москва, 1923 Сельское хозяйство СССР 1925-1928 (Сборник статистических сведений к XVI Всесоюзной партконференции) Статистическое издательство ЦСУ СССР, Москва, 1929 Основные элементы сельско-хозяйственного производства СССР 1916, 1923-1927 гг. Статгосиздат ЦСУ СССР, Москва, 1930 Сельское хозяйство от VI к VII съезду советов Москва, 1935 Сельское хозяйство СССР. Ежегодник. 1935 Государственное издательство колхозной и совхозной литературы "Сельхозгиз", Москва, 1936 Сельское хозяйство Союза ССР 1939 (Статистический справочник) Госпланиздат, Москва, 1939 Социалистическое сельское хозяйство СССР 1939 (Статистический сборник) Госпланиздат, Москва-1939-Ленинград |
|
#603
|
||||
|
||||
|
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...81%D0%B8%D0%B8
 После 1991 года С 1999 по 2008 год индекс производства продукции сельского хозяйства России вырос на 55 %.[4] В 2008 году объём выпуска сельского хозяйства России составил 87 % от уровня 1990 года, растениеводства — примерно 130 %, животноводства — примерно 60 %.[4] Объём кредитов в агропромышленном комплексе России составил в 2007 году 615 млрд рублей (из них субсидированные кредиты — 285 млрд рублей), в 2008 году — 715 млрд рублей (из них субсидированные кредиты — 310 млрд рублей).[4] В 2007 году общий валовой продукт сельского хозяйства России составил 2099,6 млрд руб., из которых на растениеводство (земледелие) приходилось 1174,9 млрд руб. (55,96 %), а на животноводство — 924,7 млрд руб. (44,04 %). По категориям производителей больше всего продукции дали личные подсобные хозяйства (48,75 % или на сумму 1023,6 млрд руб.); на втором месте—с/х организации (бывшие колхозы, совхозы и т. д.), давшие 43,76 % или 918,7 млрд руб.; меньше всего произвели фермерские хозяйства — 7,49 % или на сумму 157,3 млрд руб  
|
|
#604
|
||||
|
||||
|
http://communitarian.ru/publikacii/i...sssr_04022014/
Вопрос о причинах развала и уничтожения СССР – далеко не праздный. Он не теряет своей актуальности и сегодня, спустя 22 года после того, как произошла гибель СССР. Почему? Потому, что некоторые на основе этого события делают вывод о том, что, мол, капиталистическая модель экономики более конкурентоспособна, более эффективна и не имеет альтернатив проф., д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова ...Американский политолог Френсис Фукуяма после развала СССР даже поспешил заявить о том, что наступил «Конец истории»: человечество достигло высшей и последней стадии своего развития в виде всеобщего, глобального капитализма. АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ «ТЕНЕВОЙ» ЭКОНОМИКИ СССР По мнению подобного рода политологов, социологов и экономистов, обсуждение социалистической модели экономики, мол, вообще не заслуживает внимания. Лучше все силы сосредоточить на усовершенствовании капиталистической модели экономики. То есть такой модели, которая нацеливает всех членов общества на обогащение, а средством обогащения (получения прибыли) выступает эксплуатация одного человека другим. Правда, при этом возникают такие «естественные» атрибуты капиталистической модели, как социально-имущественное неравенство, конкуренция, циклические кризисы, банкротства, безработица и т.п. Все предлагаемые усовершенствования нацелены лишь на смягчение античеловеческих последствий капитализма. Что напоминает утопичные попытки ограничить аппетиты волка, пожирающего овец. Будем исходить из того, что ключевыми социально-экономическими признаками социалистической модели является обеспечение благосостояния для всех членов общества (цель), общенародная собственность на средства производства (главное средство), получение доходов исключительно по труду, плановый характер экономики, централизация управления народным хозяйством, командные позиции государства в экономике, общественные фонды потребления, ограниченный характер товарно-денежных отношений и т.д. При этом имеется в виду благосостояние не только в виде продуктов и услуг, обеспечивающих жизненно необходимые (биологические) потребности человека. Сюда также следует включить общественную безопасность и оборону, образование, культуру, условия труда и отдыха. Конечно, социализм – не только экономика и социальные отношения. Он предполагает также определенный тип политической власти, идеологию, высокий уровень духовно-нравственного развития общества и др. Высокие духовно-нравственные запросы должны предполагать наличие целей более высоких по отношению к целям социально-экономическим. Но мы сосредоточимся сейчас именно на социально-экономическом аспекте социалистической модели.  Так вот эрозия социалистической модели началось задолго до трагических событий декабря 1991 года, когда было подписано позорное соглашение о разделе СССР в Беловежской пуще. Это уже был финальный акт политического порядка. Это не только дата смерти СССР, но и дата полной легализации новой социально-экономической модели, которая называется «капитализм». Однако подспудно, капитализм в недрах советского общества вызревал на протяжении примерно трех десятилетий. Советская экономика де-факто уже давно приобрела черты многоукладной. В ней сочетался социалистический и капиталистический уклады. Впрочем, некоторые зарубежные исследователи и политики заявляли, что де-факто в СССР произошла полная реставрация капитализма еще в 1960-е – 1970-е гг. Реставрация капитализма увязывалась с появлением и развитием в недрах СССР так называемой «теневой», или «второй» экономики. В частности, еще в начале 1960-х гг. член Германской компартии Вилли Дикхут начал публикацию своих статей, в которых он констатировал, что с приходом к власти в нашей стране Н.С. Хрущева произошла (не началась, а именно произошла) реставрация капитализма в СССР[1]. «Теневая» экономика функционировала на принципах, отличных от социалистических. Так или иначе, она была связана с коррупцией, хищениями государственного имущества, получением нетрудовых доходов, нарушением законов (или использованием «дыр» в законодательстве). При этом не следует путать «теневую» экономику с «неофициальной» экономикой, которая не противоречила законам и принципам социалистического строя, а лишь дополняла экономику «официальную». Прежде всего, это индивидуальная трудовая деятельность. Например, работа колхозника на приусадебном участке или горожанина на своем дачном участке. А в лучшие времена (при Сталине) широкое развитие получила так называемая «промысловая кооперация», которая была занята производством потребительских товаров и услуг. В СССР государственные и партийные власти предпочитали не замечать такого явления, как «теневая» экономика. Нет, конечно, правоохранительные органы раскрывали и пресекали различные операции в сфере «теневой» экономики. Но руководители СССР, комментируя подобного рода истории, отделывались фразами типа: «исключения из правила», «отдельные недостатки», «недоработки», «ошибки» и т.п. Например, в начале 1960-х гг. тогдашний первый заместитель Совета Министров СССР Анастас Микоян определил «черный рынок» в СССР как «горсть некой грязной пены, выплывшей на поверхность нашего общества». 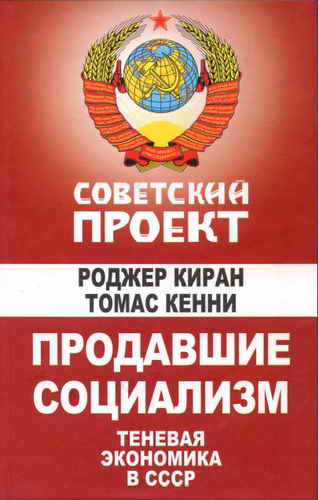 «ТЕНЕВАЯ» ЭКОНОМИКА СССР: НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ Никаких серьезных исследований «теневой» («второй») экономики в СССР не проводилось вплоть до конца 1980-х гг. За рубежом такие исследования появились раньше. Прежде всего, следует упомянуть работу американского социолога Грегори Гроссмана (Калифорнийский университет), которая называлась «Разрушительная самостоятельность. Историческая роль подлинных тенденций в советском обществе». Она получила широкую известность после того, как она была опубликована в 1988 году в сборнике «Свет в конце тоннеля» (Университет Беркли, под редакцией Стивена Ф. Коэна). Впрочем, первая статья Гроссмана на эту тему появилась еще в 1977 году и называлась ««Вторая экономика» СССР» (журнал «Problems of Communism», September-October 1977). Можно также упомянуть книгу эмигрировавшего в США советского юриста Константина Симиса «Коррупция в СССР – тайный мир подпольного советского капитализма», изданную в 1982 году. Автор в 1970-е гг. тесно соприкасался с некоторыми «теневиками», адвокатом которых он выступал на судебных процессах. Однако количественных оценок «теневой» («второй») экономики К. Симис не дает. Позднее появились работы американских социологов и экономистов русского происхождения Владимира Тремля и Михаила Алексеева. С 1985 года Грегори Гроссман и Владимир Тремль выпускают периодические сборники по «второй экономике» СССР. Выпуски продолжались до 1993 года, всего было издано 51 исследование с участием 26 авторов. Многие исследования представляли собой социологические опросы семей эмигрантов из СССР (всего 1061 семья)[2]. Для исследований также использовались опросы эмигрантов из других социалистических стран, официальная статистика СССР, публикации в СМИ и научных журналах Советского Союза. Несмотря на различия в ряде количественных оценок отдельных авторов эти расхождения не были принципиальными. Различия возникали из-за того, что одни авторы рассматривали «неофициальную экономику», другие «теневую экономику», при этом их определения той и другой экономик могли не совпадать. Приведем некоторые результаты этих исследований. 1. В 1979 г. незаконное производство вина, пива и других спиртных напитков, а также спекулятивная перепродажа спиртных напитков, произведенных в «первой экономике», обеспечили доходы, равные 2,2% ВНП (валовой национальный продукт). 2. В конце 1970-х гг. в СССР процветал «теневой» рынок бензина. От 33 до 65% покупок бензина в городских районах страны индивидуальными владельцами автомобилей приходилось на бензин, продаваемый водителями государственных предприятий и организаций (бензин продавался по цене, ниже государственной). 3. В советских парикмахерских «левые» доходы превышали суммы, которые клиенты уплачивали через кассы. Это лишь один из примеров того, что некоторые государственные предприятия де-факто принадлежали ко «второй экономике». 4. В 1974 г. на долю работы на частных и приусадебных участках приходилось уже почти 1/3 всего рабочего времени в сельском хозяйстве. А это составляло почти 1/10 всего рабочего времени в экономике СССР. 5. В 1970-е годы примерно ¼ продукции сельского хозяйства производилась на личных участках, значительная ее часть направлялась на колхозные рынки. 6. В конце 1970-х гг. около 30% всех доходов городского населения были получены за счет различных видов частной деятельности (как законной, так и незаконной). 7. К концу 1970-х гг. удельный вес лиц, занятых во «второй экономике», доходил до 10-12% общей численности рабочей силы в СССР. В конце 1980-х гг. появился ряд работ по «теневой» и «второй» экономике в СССР. Прежде всего, это публикации советского экономиста Татьяны Корягиной и директора НИИ Госплана Валерия Рутгейзера. Вот данные из работы Т. Корягиной «Теневая экономика СССР»[3]. Годовая стоимость нелегально произведенных товаров и услуг в начале 1960-х гг. составляла примерно 5 млрд. руб., а в конце 1980-х гг. достигала уже 90 млрд. руб. В текущих ценах ВНП СССР составлял (млрд. руб.): 1960 г. – 195; 1990 г. – 701. Таким образом, экономика СССР за тридцатилетие выросла в 3,6 раза, а «теневая» экономика – в 14 раз. Если в 1960 году «теневая» экономика по отношению к официальному ВНП составляла 3,4%, то к 1988 году этот показатель вырос до 20%. Правда, в 1990 году он был равен 12,5%. Такой спад был обусловлен изменением советского законодательства, которое перевело в разряд легальных целый ряд видов экономической деятельности, которые ранее считались незаконными. Число занятых в «теневой» экономике, по оценкам Т. Корягиной, в начале 1960-х гг. составляло 6 млн. чел., а в 1974 г. их число возросло до 17-20 млн. чел. (6-7% населения страны). В 1989 году таких «теневиков» было уже 30 млн. чел., или 12% численности населения СССР. 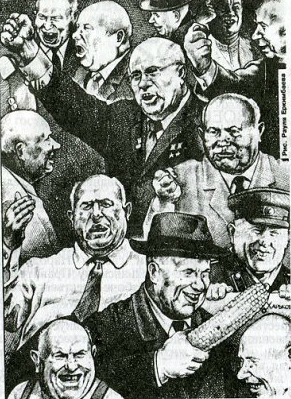 УГРОЗЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ «ТЕНЕВОЙ» ЭКОНОМИКИ В СССР И американские, и советские исследователи обращают внимание на некоторые особенности «теневой» экономики и ее влияние на общую обстановку в СССР. 1. «Теневая» экономика как заметное явление советской жизни возникло в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Все исследователи однозначно связывают это с приходом к власти в стране Н.С. Хрущева, который рядом своих непродуманных решений выпустил из бутылки джина «теневой экономики». Примечательно, что даже те авторы, которые достаточно негативно относятся к Сталину, вынуждены признать, что в период нахождения Сталина у власти «теневой», или «подпольной» экономики почти не было. Зато было легальное мелкотоварное производство (например, промысловые артели в городах). Хрущев уничтожил такое мелкотоварное производство, на его место пришли «теневики». 3. «Теневая экономика» существовала за счет государственных ресурсов, значительная ее часть могла нормально функционировать при условии хищения материальных ресурсов государственных предприятий и организаций. Таким образом, создавалась иллюзия, что «теневая экономика» восполняла недостатки «белой» экономики. Происходило просто-напросто «перераспределение» ресурсов из государственного (и колхозного) сектора экономики в «теневой».2. «Теневая» экономика была более развита не в центральных регионах СССР, а на периферии страны. Так, Г. Гроссман оценивал, что в конце 1970-х гг. доля доходов от «второй» экономики составляла около 30% всех доходов городского населения в масштабах СССР. При этом в РСФСР она приближалась к среднему значению по стране, а в регионе Белоруссии, Молдавии и Украины среднее значение было около 40%, в Закавказье и Средней Азии – почти 50%. В Армении среди этнических армян показатель достигал 65%. Гипертрофированное развитие «второй» экономики в ряде союзных республик создавало иллюзию того, что эти регионы «самодостаточны». Мол, они имеют более высокий жизненный уровень, чем Россия, и могут вполне существовать и развиваться вне Союза ССР. Все это создавало благоприятную почву для сепаратистских движений в национальных республиках. 4. «Теневая экономика» порождала коррупцию. Хозяева «теневых» структур занимались подкупом руководителей и функционеров государственных предприятий и организаций. С какой целью? – Чтобы те как минимум не мешали «теневому» бизнесу. А как максимум, чтобы становились соучастниками такого бизнеса, оказывая содействие в снабжении сырьем, товарами, транспортными средствами и т.п. Это первый, микроэкономический уровень коррупции. Далее следует второй, региональный уровень, который связан с подкупом правоохранительных органов и вообще органов государственной власти на местах. Создается система регионального «крышевания» «теневого» бизнеса. Наконец, коррупция выходит на третий, общегосударственный уровень. «Теневики» начинают лоббировать свои экономические интересы в министерствах и ведомствах. Экономика лишь формально продолжает развиваться как «плановая». Управленческие экономические решения на общегосударственном уровне начинают приниматься под влиянием «теневиков». 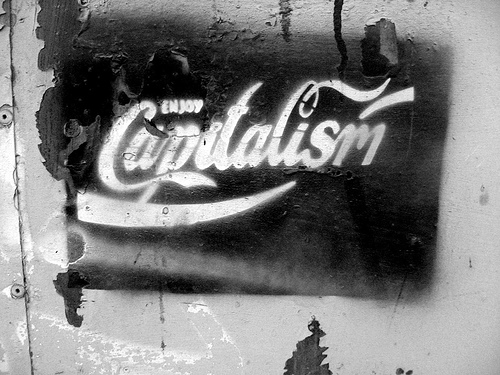 5. Хозяева «теневого» бизнеса накапливают такие громадные капиталы, которые позволяют им заниматься лоббированием политической власти в стране. «Теневикам» становится тесно в рамках даже формального социалистического способа производства. Они начинают готовить полную реставрацию капитализма. Она и произошла в период нахождения у власти М. Горбачева под прикрытием лживых лозунгов «перестройки». Эта «перестройка», в конечном счете, была инициирована не М. Горбачевым или А. Яковлевым. Она была организована «теневым» капиталом, по указкам которого и действовали «реформаторы» из КПСС. ___________________ [1] Затем В. Дикхут написал книгу «Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion» («Реставрация капитализма в Советском Союзе»), которая вышла несколькими частями в 1971—1988 годах. В 2004 году она была издана у нас на русском языке под названием «Реставрация капитализма в СССР» [2] Киран Роджер, Кенни Томас. Продавшие социализм. Теневая экономика в СССР. – М.: Алгоритм, 2009, с. 35 [3] Корягина Т. Теневая экономика в СССР // Вопросы экономики. 1990. № 3 |
|
#605
|
||||
|
||||
|
Оригинал взят у matveychev_oleg в Жизнь в СССР: хорошо или плохо?
Оригинал взят у dmgusev "Опять ностальгия по СССР" - скажете вы. Нет. Немного не так.  Я хочу втянуть вас в фотоспор воспоминаний об СССР. Чтобы ностальгирующие (или ненавидящие ту эпоху) аргументированно показали, что им нравится/не нравится/что они помнят/любили/ненавидели. Чтобы те, кто не застал дни посмотрели. Может они будут относиться по-другому к той эпохе, которая уже стала историей. Только нужно подтверждать свои слова фотографией. Так интереснее. Попробуем? Красиво и с уважением к друг другу  Первый раз в первый класс. 1 сентября для первоклашек всегд праздник. Помните гордость, когда идешь в новой форме (которую еще с таким восторгом недавно примерял в "Детском мире"), с цветами, с ранцем за спиной идешь на первый в своей жизни "Урок мира"?  Октябрята. Честно говоря немного стерто, смазанно, как это было. Единственное, что хорошо запомнил, это октябрятское звено. Соревнования между звеньями. Все рано хорошие, теплые воспоминания. А еще помню, что вот такие значки были обычными, а "модными" считались из прозрачного пластика ("стеклянные") с фотографией внутри.  Пионеры. Много осуждающего вылилось на них. А я вот был пионером. А когда мне повязали галстук, а это было в музее революции, я шел домой в незастегнутой куртке, чтобы все видели, что я уже пионер. К сожалению, свой галстук я где-то потерял   Пионерский лагерь. Достаточно сказать, что там я первый раз танцевал с девочкой (не по принуждению), первый раз играл в "Зарницу", первый раз встречал рассвет в у пионерского костра, а ещё меня с товарищем чуть не выкинули из лагеря за танцы под проливным дождём  Была у меня ещё книга русских сказок, толстая, красная, я вечером всему отряду их читал, как теперь не странно, меня слушали с интересом! Таскали хлеб из столовой, чтобы вечером, вытащив из под подушки им хрустеть (горбушки - особое лакомство). Правда, вся постель после этого была в крошках   Медицина. Она была БЕСПЛАТНА. Каждый год - проходили всех врачей. Все. На любом предприятии/организации/школе/детском саду. На курорт? - Пожалуйста. В санаторий? - Вперед. А сейчас многие могут похвастаться ежегодным осмотром и прививками? В лучшем случае загоняют на флюорографию...  Автомобили. Мой отец ездил на заработки в Сибирь, после приезда купили такой белоснежный Москвич, как на фото. Когда я её первый раз увидел, было невероятное чувство восторга, лучше машины быть не могло   Космос. Кто не хотел стать космонавтом? У меня ощущение, что все хотели. Да что там говорить, мы знали всех космонавтов по фамилям, в порядке их полетов. Собирали марки, календари, книги - все, что имело отношение к космосу.  Армия. Скажу , что служить самому не довелось, однако, каждые выходные прилипал к телевизору, смотря передачу "Служу Советскому Союзу". Сильный, справедливый - вот образ человека в форме того времени.  Милиция. Была Уважаема. Не боялись ее - уважали. Можете сами дополнить, кто сталкивался.  Демонстрация 1 мая. Как хотите, можете называть всех зомби или еще как, но это был реально праздник.  Культура Какие были фильмы, какие актёры! разве сегодняшняя коммерческое производство может сравниться с шедеврами того времени? Ну а, как известно, работникам нашего Большого театра рукоплескала вся планета! Конечно, это мои, в основном детские и юношеские воспоминания, они, конечно немного наивны, но, по-моему, очень добры. Ничего негативного не выкладывал, думаю, этого наберётся в комментариях, но, друзья, будьте объективны и не ругайтесь  via |
|
#606
|
||||
|
||||
|
http://www.globalaffairs.ru/number/P...egratcii-15720
вчера 01:58 Однажды утром 1992 года мир обнаружил, что на карте больше нет страны под названием СССР. Одна из двух мировых супердержав ушла в небытие — и не по причине войны, иностранного вторжения или какой-то катастрофы, а из-за неудачного и похожего на фарс переворота. Коллапс случился неожиданно, ведь Советская империя была слишком велика, чтобы распасться, слишком стабильна, чтобы рухнуть и, кроме того, за время своего существования она пережила слишком много пертурбаций, чтобы просто так развалиться на части. На самом деле, начиная с 1970-х годов, давали о себе знать свидетельства необратимости начавшегося упадка советской системы. Однако считалось, что на это уйдут десятилетия. Ничто не предвещало ее разрушения как кульминации «краткого ХХ века». В 1985, 1986 и даже в 1989 годах распад Советского Союза казался аналитикам того времени столь же невероятным, сколь невероятным кажется распад Евросоюза аналитикам наших дней. Группа признанных американских экспертов, тесно связанных с Пентагоном, даже в 1990 году была убеждена, что СССР к концу десятилетия с большой вероятностью станет государством всеобщего благосостояния по модели Швеции и успешно функционирующей парламентской республикой. Почти столь же невероятным казался тогда и полный распад государства в самом недалеком будущем. Сенсационные сценарии — занимательное чтение, но в реальности существуют факторы стабилизации и замедления; общества часто переживают кризисы, порой гибельные для них и опасные для окружающих. Они редко кончают самоубийством [1]. Но как все может измениться за десятилетие! В 1995 году повсеместно признаются «неотвратимыми» события и процессы, казавшиеся невероятными в 1985 году. Провал воображения выдали за действие исторической неизбежности. Именно этот зигзаг судьбы, скачок от «невероятного» к «неизбежному» и делает советский опыт распада отправным пунктом в полемике о контекстах, ближайших последствиях, а также о возможных путях действий для нынешних европейских лидеров. В конечном счете, нынешний кризис ЕС с особой силой показал, что слова о возможности его распада отнюдь не риторический прием — чертик из табакерки, которого испуганные политики демонстрируют несчастным избирателям, чтобы усилить давление на них. Сегодня не только европейская экономика, но и политика вошли в состояние турбулентности. Европа оказалась между Сциллой слабости национальной политики ее государств и Харибдой растущего недоверия к рынкам. Финансовый кризис резко сократил срок службы правительств, независимо от их политической окраски, и способствовал усилению протестных и всякого рода популистских партий. Сегодняшние общественные настроения лучше всего можно было бы описать как смесь пессимизма и гнева, прекрасно переданную в строках стихотворения У.Б. Йейтса «Второе пришествие»: Что было цельным, рушится на части ...лучший Ни в чем не убежден, тогда как худший Горячим напряженьем переполнен. (пер. Г. Кружкова) Эти настроения отразили последние опросы и, в частности, опрос «Будущее Европы», заказанный Европейской комиссией и опубликованный в апреле 2012 г. [2] Согласно ему, большинство европейцев считают, что ЕС — благоприятная для повседневного существования территория, однако снизилась их уверенность в экономических показателях Европейского Союза и его способности играть существенную роль в глобальной политике. Почти 90% европейцев отмечают разрыв между потребностями общества и действиями их правительств, и эта цифра внушает опасения. Только треть европейцев полагают, что их голоса имеют вес на уровне ЕС, и лишь 18% итальянцев и 15% греков убеждены, что их голоса принимаются в расчет хотя бы в их собственных странах. Последний же опросник «Трансатлантик Трендс» показывает, что 76% европейцев видят экономическую систему своих стран несправедливой и вполне обеспечивающей только верхушку общества [3]. Словом, Европейского Союза, каким мы его знали, больше не существует, поскольку размываются самые основы, на которых он был выстроен. Выветрилась из сознания людей общая память о Второй Мировой войне — половина учащихся средних школ Германии, те, кому 15-16 лет, не знают, что Гитлер был диктатором, а треть полагают, будто он защищал права человека [4]. Коллапс Советского Союза демонтировал геополитическую предпосылку возникновения ЕС. Демократическое государство всеобщего благосостояния, служившее ядром послевоенного политического консенсуса, ныне находится в положении осажденной крепости — в том числе, и по демографическим показателям. Процветание же, обеспечивавшее политическую легитимацию Европейского проекта, буквально выцветает на глазах. Более шестидесяти процентов европейцев полагают, что нынешним детям будет сложнее жить, чем их собственному поколению [5]. Вместе с тем, решив сравнить современный кризис Евросоюза с коллапсом СССР, мы вовсе не считаем, что ЕС обречен на распад. Внутренний смысл этого сравнения — разрушить необоснованные иллюзии, а не нагнетать апокалиптические страхи. Все мы знаем, что Европейский Союз — это не Советский Союз. Советский порядок, как писал историк Мартин Малиа, «рухнул как карточный домик, потому что он всегда был им — карточным домиком» [6]. В последние годы существования советского режима его идеологическая привлекательность осталась в далеком прошлом, а способность поддерживать рост экономики истощилась. В 1990 г. на полках магазинов можно было найти только 11% процентов необходимых потребительских товаров, остальные же 89% оказывались в дефиците [7]. Таким образом, советский порядок был парализован безысходным сочетанием политического застоя (stability) и экономической неэффективности. Евросоюз не карточный домик, и, если мы хотим извлечь уроки из распада СССР, нужно иметь в виду важнейшие различия между советским и европейским проектами. Европейский Союз — еще незавершившийся проект, тогда как Советский Союз был проектом, гнилым в своей основе. Если советский проект был построен на терроре, то европейский — на консенсусе. Если большинство советских граждан привлекала западная жизнь, то европейцы гордятся своим образом жизни, своей политической моделью и отнюдь не грезят «мечтой о китайском чуде». Если распад Советского Союза был предопределен крахом коммунистической идеологии, то Европейский Союз не страдает сколь-либо заметным кризисом мировоззрения. Если советские реформаторы видели будущее СССР в менее централизованной федерации или конфедерации, то выживание ЕС предопределяется более тесным политическим объединением. Одним словом, Советский Союз пал жертвой собственных ошибок, тогда как европейскому проекту угрожает чрезмерность его успеха. С одной стороны, природа европейского проекта, глубинным образом отличающая его от СССР, является серьезным аргументом почему европейцы не пойдут по пути Советского Союза, с другой стороны, она еще не гарантирует невозможности распада. Чтобы ЕС выжил, европейским лидерам следует не допускать ошибок, совершенных руководителями СССР. Советский Союз остался в прошлом не в силу заговора Запада, не только из-за структурных дефектов коммунистической системы, но, в том числе, и из-за управленческих решений — принятых или, наоборот, не принятых в ситуации кризиса. Когда читаешь воспоминания кого-нибудь из главных действующих лиц разыгравшейся драмы распада, не покидает ощущение, что для некоторых советских лидеров, включая Михаила Горбачева, уход в небытие Советского Союза предстал полной неожиданностью. Кажется, что в течение долгих лет после смерти и похорон Советской империи они все еще не были готовы поверить в ее исчезновение. Тем не менее, можно заметить, что нежелание Горбачева ввести в СССР прямые президентские выборы оказалось столь же роковым для дальнейшего существования Советского Союза, сколь и беспрецедентно низкие цены на нефть на международных рынках. Однако, осмысляя опыт распада СССР, эксперты нынешнего европейского кризиса сталкиваются с некоторыми трудностями: в случае с ЕС трудно даже понять, что же может означать «коллапс Союза». В случае Советского Союза коллапс означал исчезновение с карты одного государства и появление пятнадцати новых на всей территории от крайнего севера и до Средней Азии, от Средней Азии до юго-восточной Европы. Но Европейский Союз не государство, и даже если он распадется, на карте ничего не изменится. Более того, даже в случае разрушения Евросоюза большинство государств-членов останутся рыночными демократиями, и вполне определенный уровень кооперации и институциональная общность сохранятся. Итак, как определить или концептуализировать «распад»? Чем распад отличается от реформы или реконфигурации Союза? Можно ли рассматривать выход страны из еврозоны или вообще из Евросоюза как «распад»? Или о «распаде» должны свидетельствовать другие тенденции, такие как уменьшение влияния ЕС в глобальном масштабе или аннулирование некоторых главных достижений европейской интеграции (таких как свободное передвижение людей или ликвидация институтов, подобных Европейскому Суду)? Служит ли синонимом дезинтеграции появление «двухуровневого» ЕС (ЕС старых и ЕС новых членов) или это шаг в направлении более тесного и совершенного объединения? В поисках ответа на эти вопросы опыт Советского Союза может преподать несколько очень важных уроков — не столько на уровне политических стратегий, сколько на уровне тактики кризисного управления в политике. Урок первый, он же парадокс: поддерживаемая экономистами и разделяемая европейскими политическими классами вера в невозможность распада ЕС в то же самое время несет в себе риск дезинтеграции. Классическим образцом этой динамики являются последние годы существования СССР Ощущение, будто распад «невероятен», может подвигнуть политтехнологов поддаться искушению избрать для собственных целей направленные против Европейского Союза риторику или политику. Они будут действовать ради краткосрочных выгод в святой уверенности, что в долгосрочном плане «ничего действительно ужасного не может случиться». Убежденность в том, что распад ЕС — совершенно маловероятный сценарий развития событий, ведет их к недооценке временного фактора, когда речь идет о выживании Союза. «Как мало времени осталось, как мало мы прожить успели» — заманчивое название для любого повествования о распаде СССР. Оно, однако, могло бы послужить названием для нежелательного и провального Европейского сценария событий. Один из факторов риска текущего европейского кризиса заключается в том, что демократическая природа ЕС устанавливает следующее: политические решения воспринимаются в строго национальных пределах и предопределяются национальными электоральными циклами. Однако рынки отказываются следовать политической логике государств-членов ЕС и испытывают чувствительность Европы именно в дни выборов. Сегодня давление со стороны рынков объединяет Европу, а давление со стороны избирателей разделяет ее. И забота политических элит сегодня — управлять этими двумя инструментами давления. Однако прерогатива оценки степени риска распада не должна быть закреплена за экономистами, остающимися в «слепой зоне» в момент коллапса. Вот как об этом пишет ведущий американский экономист Фред Бергстен: «учитывая, сколь велики ставки, Европа уверенно воплощает оригинальную идею всестороннего экономического и монетарного союза» [8]. И можно было бы надеяться, что он прав, но случившееся с СССР заставляет думать иначе: Европе может помешать отнюдь не слишком высокая экономическая цена дезинтеграции. В этом смысле утверждение, что ЕС не может распасться просто потому, что за это все заплатят слишком большую цену, слабо убеждает нас в стабильности Европейского Союза. Все дело в том, что в эпохи кризисов верх над «логикой экономистов», как правило, берет «логика политиков». В какой-то момент европейским лидерам с большой долей вероятности придется выбирать между сохранением евро и сохранением Союза — и в этом подлинный вызов нынешнего кризиса. Более чем очевидно, что результатом обвала евро мог бы стать демонтаж европейского проекта, однако — это менее очевидно, но вовсе не невероятно — «сохранить евро» можно было бы ценою демократии в периферийных странах Союза. Такое развитие событий могло бы коренным образом изменить природу европейского проекта. Если вполне пригодным решением для многих экономистов является диктат целомудренных стран-кредиторов по отношению к впавшим во грех странам-должникам, то для политических аналитиков за этими мерами маячит призрак будущего кризиса [9]. Второй урок заключается в том, что для распада ЕС вовсе не нужна победа сил, направленных против Европейского Союза, над силами, защищающими его. Советский опыт — убедительное предупреждение Европе, что коллапс может случиться вдруг. Если же это произойдет, он станет непредумышленным следствием долгосрочной дисфункции Союза (во всяком случае, того, что мы воспринимаем как дисфункцию), осложненной ошибочным пониманием элитами национальной политической динамики. Если нынешние политические лидеры явно захвачены динамикой настроений сторонников и противников ЕС в обществе, то политаналитики одобряют любые национальные выборы, на которых популистские партии не получают парламентского веса. Но грубый тайный смысл всего этого состоит в том, что цена нейтрализации давления популизма очень высока. Многие партии в Европе начинают говорить и действовать как популисты. Дело в том, что в ситуации нынешнего европейского кризиса (в отличие от Советского) никакая возникшая в народе альтернатива ЕС не может смягчить риск динамики распада. Безусловно, большая часть европейских граждан (за исключением Британии), даже разочаровавшись в ЕС, вовсе не мечтает вернуться в Европу времен национальных государств. Но отсутствие привлекательной альтернативы еще не страховка от распада. Есть и другой фактор риска в нынешнем европейском кризисе. В то время как у Евросоюза нет альтернативы, волны популизма, поднимающиеся на юге и на севере, преследуют разные цели и делают единую политику крайне затруднительной. Разгневанные избиратели на юге Европы сопротивляются жесткой политике, рекомендуемой севером, но они же поддерживают ЕС как политическую реальность. Причина тому — полное недоверие своим национальным правительствам и разочарование в национальных демократиях. Популистские движения на севере одобряют жесткие меры, однако противостоят общеевропейским политическим институциям, поскольку собственным демократиям они верят гораздо сильнее, чем Брюсселю. Таким образом, можно говорить не столько о росте антиевропейского популизма, сколько о столкновении между направленным против жестких мер популизмом юга и антибрюссельским популизмом севера. Именно это столкновение и может разрушить Европейский Союз. Третий урок исчезновения Советского Союза связан с ошибочностью реформ, поскольку они могут привести к распаду даже с большей вероятностью, чем их отсутствие. Во времена кризиса политики ищут «серебряную пулю», но слишком часто именно она и губит их самих. Ключевым фактором разрушения советской системы стала неспособность Михаила Горбачева постичь природу распада СССР, поскольку советский лидер пребывал в глубокой иллюзии как относительно возможности сохранения Советского Союза без проведения всеобъемлющих реформ, так и относительно превосходства СССР над иными системами. Михаил Горбачев был уверен в том, что государство с однопартийной системой может пережить как утрату ее идеологической легитимности, так и распад КПСС на уровне организации, что в наибольшей степени и обрекло на неудачу все его усилия по сохранению и реформированию СССР. Тем поразительнее видеть, сколь разные выводы сделали советские и китайские лидеры из ошибок коммунистического эксперимента. Советские реформаторы, вышедшие из кругов либеральной интеллигенции, полагали, что единственное ценное в социализме — социалистические идеи. В противоположность им реформаторы в Китае усиленно избавлялись от социалистической идеологии, в то же время делая все возможное, чтобы сохранить организационную мощь коммунистической партии, осознавая ее значимость для сохранения единства страны. Опасность неверного направления реформ кроется и в искушениях, которым поддаются лидеры европейских стран: использовать кризис как возможность поступать так, как хочется, заранее зная, что их действия вызовут протест в народе. Устремления федералистов к принятию радикальных решений во многом стали результатом логики кризиса. Точно так же требование завершить Европейский проект, начатый введением общей валюты, представляет собой попытку овладеть текущей ситуацией и компенсировать отсутствие народной поддержки идеи федералистской Европы. Но давление кризиса не может заменить общественное согласие, и провал советских реформ — лучшая тому иллюстрация. Четвертый урок, извлекаемый из советского опыта, видится в том, что главный риск такого политического проекта — в случае отсутствия военных действий или иных экстремальных обстоятельств — исходит не от дестабилизации ситуации на периферии, а от недовольства и возмущений в центре (даже если кризис на периферии перекидывается и на другие территории области). Это был выбор России, а не республик Прибалтики — отказаться от Союза. Разлитое повсюду желание уйти как можно дальше от наследия СССР определило судьбу советского государства. Равным образом нынешняя позиция Германии касательно событий, происходящих в Европейском Союзе, гораздо решительнее повлияет на будущее европейского проекта, нежели трудности, с которыми столкнулись экономики Греции или Испании. Очевидно, что когда «победители» интеграции начинают ощущать себя ее главной жертвой, появление серьезных проблем неотвратимо. Вот почему для уяснения рисков дезинтеграции столь важно правильно понять как происходящее в Германии, так и ее позицию. В этом отношении сколько-нибудь помочь могут параллели между ролью РСФСР в контексте распада Советского Союза и ролью ФРГ в контексте европейского кризиса. По мере развития кризиса, приведшего к краху СССР, Российская Федерация играла довольно странную роль: у нее был легитимный, избранный в результате прямых выборов лидер — Б.Н. Ельцин. Однако РСФСР оказалась тенью Советского государства. В каком-то смысле СССР должен был погибнуть, чтобы родилась Россия. Иное дело ФРГ, выступившая в ситуации тогдашнего кризиса не просто как европейская супердержава, но как синоним эффективной Европы. Вопреки шумихе, поднятой СМИ, у европейцев нет причин сомневаться в преданности Германии Европейскому Союзу. Но сегодня можно и должно спрашивать о ее стратегии, направленной на изменение правил игры внутри ЕС, о степени успешности этой стратегии. Итак, от ответа на вопрос, насколько успешна будет германская стратегия трансформации «солидарной Европы» в «правовую Европу», зависит целостность Европейского Союза. Пока что, учитывая линию поведения Германии в нынешнем кризисе, лидерство Берлина проходит испытание на прочность. Парадокс в том, что Европа находится в кризисе, а самое сильное ее государство, Германия, — нет (в отличие от положения РСФСР в период дезинтеграции СССР). Более того, Германия получает наибольшую выгоду от общеевропейского кризиса. Ее правительственные долговые обязательства рефинансированы с нулевой процентной ставкой. А безработица опустилась до рекордно низкого уровня. В Германии результатом кризиса стал приток квалифицированных рабочих из Италии, Испании, Португалии, Греции, что уменьшило демографические страхи немецкого общества. Положение Германии в глобальном мире только упрочилось. Таким образом, у этой страны есть все основания и бояться кризиса, и радоваться ему. Берлин не спешит обуздать кризис: во-первых, потому, что обращает его в свою пользу, а во-вторых, потому, что любые скоропалительные действия могут подорвать усилия Германии преобразовать Евросоюз. В некотором смысле кризис предоставляет Германии последний шанс создать «Европу правил». Однако еще важнее иметь в виду, что Германию, как и другие богатые и «старые» европейские страны, ожидает много долгосрочных вызовов: количество рабочей силы уменьшается, энергетический сектор требует коренной перестройки, а инфраструктура слишком надолго застопорилась в развитии. За последнее десятилетие чистые инвестиции в Германии как доля ВВП были меньше, чем когда-либо в истории, за исключением периода Великой Депрессии. За эти десять лет неравенство доходов в Германии увеличивалось в два раза быстрее, чем в среднем в государствах — членах ОЭСР [10]. В последнее время неоднократно ставится вопрос об истории имперских амбиций Германии. Они могли бы обернуться фактором сопротивления всей остальной Европы стратегии Берлина трансформировать Европу. Однако значительно меньше говорится о том, что природа немецкого реформенного опыта также может оказаться фактором риска и помехой усилиям преодолеть кризис. Как институциональная слабость РСФСР привела к тому, что дезинтеграция стала единственной возможностью сохранить жизнеспособность Российской государственности, так и опыт реформ ФРГ предопределяет возможности выбора Берлина. Варианты поведения Германии в кризисное время, как правило, восходят к опыту Веймарской республики с ее инфляцией (что объясняет страстное желание стабильных цен на товары), демографическому профилю немецких избирателей (людей старшей возрастной группы, боящихся потерять свои сбережения) и интеллектуальной традиции либерализма, полагающегося на такие независимые институции, как Конституционный Суд или Бундесбанк — центральный банк Германии [11]. Кроме этого, в попытках понять позицию Германии, обычно вспоминают ее опыт воссоединения (который не объяснить одним благородством) и последнее десятилетие реформ (эффективность только структурных реформ). Однако наименее изученным источником немецкой стратегии преобразований в Европе является немецкое восприятие опыта Центральной и Восточной Европы в переходный период. На наш взгляд, видение Германией векторов европейских изменений глубоко укоренено в опыте самих этих стран. Говоря о Центральной и Восточной Европе, немецкие политтехнологи были убеждены в том, что возможно проводить болезненные экономические реформы, направленные на демонтаж государства всеобщего благосостояния, не провоцируя негативную реакцию на них масс и их вождей. Немцы полагали, что результатом внешней интервенции может быть не столько делегитимизация национальных демократических институтов, сколько их усиление. Таким образом, итоговую повестку дня немецких реформ можно было бы охарактеризовать следующим образом: «делать на юге то же самое, с чем мы преуспели на востоке» — поощрять финансово ответственных членов-государств Союза. Опыт Центральной и Восточной Европы не может объяснить, почему Германия хочет именно того, чего она хочет, но вполне объясняет, почему Берлину кажется, что эта стратегия сработает! У Германии есть весомые аргументы полагать, что ее стратегия преобразований может быть воплощена как за пределами самой страны, так и за пределами северной Европы. Постреволюционный кризис в большинстве стран Центральной и Восточной Европы оказался глубже и болезненнее, чем тот же самый кризис, переживаемый в наши дни южной Европой. По сравнению с институциями на юге, институции Центральной и Восточной Европы оказались слабее, а риски политической нестабильности и насилия в этих странах — выше. В то же время отмечаются некоторые факторы, делающие очень опасным «преобразование юга по тем же лекалам, что и преобразование востока». Успех стран Центральной и Восточной Европы в переходный период — следует, впрочем, учитывать степень этого успеха (в частности, опыт Венгрии показывает, что эта результативность не была абсолютной или необратимой) — был предопределен несколькими факторами, которых не наблюдается в современном контексте. На востоке был силен негативный консенсус в отношении к прошлому, оптимизм в отношении будущего, а молодые поколения чувствовали себя победителями. На юге считают, что именно прошлое и следует оберегать, взгляды проникнуты пессимизмом, а молодые поколения — наибольшие неудачники. В переходный период страны Центральной и Восточной Европы определенно знали, что делать, а Запад был той моделью, которой стремились следовать большинство из них. Сегодня кризис Европейского Союза — часть более глобального кризиса капитализма и либеральной демократии, какими мы их знаем. В тех странах и в то время переходные процессы сопровождались появлением новых элит, а народ чувствовал себя победителем. Сегодня всё изменилось. Итак, надежда, что южную Европу можно трансформировать по модели Центральной и Восточной Европы, может стать слабым местом в берлинской стратегии изменения правил в Евросоюзе. Сущность пятого урока заключается в том, что если в Европе начнет превалировать динамика распада, то ее результат будет более похож на банковский крах, чем на народную революцию, направленную против Союза. Так, наиболее важным фактором, определяющим шансы Союза на выживание, является вера элит в возможности Союза помочь им в решении собственных проблем. Как замечательно подметил Стивен Коткин, говоря о Советском Союзе, «именно центральная элита, а не независимые движения на периферии привели к краху СССР» [12]. В то время как простые люди могут быть недовольны состоянием дел в Евросоюзе, не восставая против него, правящие элиты стран-членов ЕС могут принять решение о выходе из Союза в страхе утратить контроль над процессами. И даже в момент, когда они задумываются о таких перспективах, их действия (провоцируя всеобщую панику среди тех, кто опасается встать последним в очередь за своими деньгами во время банковского краха) могут внести свою лепту в приближение окончательного коллапса. Парадоксально, что вообще ЕС — это проект европейских элит, питаемый их жаждой демократии. Нынешний Европейский Союз — тоже проект элит, которому угрожает их страх перед демократией. В своих государствах они не способны вывести демократию на европейский уровень из-за нехватки «европейскости» в народных слоях, испуганы широким спектром массовых антиевропейских настроений на национальном уровне. В силу этого многие европейские политики готовы превентивно повернуться спиной к Евросоюзу. Впервые с момента запуска Европейского проекта после 1945 года понятия «более тесный союз» и «более глубокая демократия» оказываются не в ладах друг с другом. Пока государства-члены ЕС будут оставаться полностью демократическими, построить политический союз, способный удерживать евро с помощью общей денежной политики, будет невозможно по причине отсутствия поддержки этой идеи гражданами государств. С другой стороны, падение общей валюты может привести к распаду всего Евросоюза и также ускорить крушение местных демократий в некоторых странах востока и юга, особенно Венгрии, Румынии и Греции. Таким образом, в противовес ожиданиям некоторых теоретиков демократии, ЕС не станет жертвой мнимого дефицита демократии в общеевропейских институтах. Его также вряд ли может спасти демократическая мобилизация гражданского общества. Напротив, сегодня весьма распространено разочарование в демократии (господствует общее убеждение, что правительства стран-членов ЕС беспомощны перед лицом глобальных рынков), которое, вероятно, наилучшим образом поможет снизить нарастающее напряжение между целью дальнейшей европейской интеграции и целью углубления демократии в Европе. Впрочем, было бы легкомысленно утверждать, что такая «усталость от демократии» может сохранить европейский проект, поскольку природа разочарования в демократии существенно отличается от страны к стране. Особенно велика разница между финансово стабильными северными странами (Германия, Нидерланды, Австрия и Финляндия) и странами-должниками (Италия, Испания, Греция и Португалия). Разочарование в текущей политике в обществах по южному окоему Европы может снизить степень их нежелания передавать больше полномочий центру Евросоюза, но не может предотвратить политическое выступление против жестких мер, навязываемых севером. Более того, часть избирателей в странах северной Европы все еще сохраняют веру в институты демократии. А это, вероятно, превратит их в решительных противников политического союза Европы. Вот почему «банковский крах», но не банков, а самой идеи ЕС, мог бы стать одним из сценариев коллапса Евросоюза. Шестой урок распада Советского Союза связан с тем, что путь к дезинтеграции открывают надежды ЕС на небольшой, но успешно функционирующий и крепкий союз, который может пережить крах еврозоны. В этом контексте стоит взглянуть на политическую логику распада рублевой зоны, что в рамках нашей дискуссии поможет пролить свет на возможность и даже в некоторых отношениях желательность прекращения существования еврозоны. Заметим, впрочем, что по ряду причин сопоставление непростой ситуации, в которой оказалась еврозона, с историей краха рублевой зоны оказывается нелегким делом в силу ряда факторов: природы советской командной экономики, низкой степени ее гибкости, институциональной слабости постсоветских республик и того обстоятельства, что объединяющей СССР идеей была не идея свободного рынка, а трансграничная интеграция по линии наращивания производства. Справедливым будет признать, что в случае распада еврозоны в характере ее дезинтеграции мы найдем совсем немного сходства с процессом введения собственных валют в постсоветском пространстве. Однако некоторые выводы все-таки можно сделать. Анализируя падение рублевой зоны, Патрик Конвей заметил, что «страны стремятся покинуть общую валютную зону в силу трех причин: 1) национализм, 2) желание уберечь себя от монетарного шока, вызванного состоянием экономики других стран, 3) стремление распространить национальный контроль на сеньораж» [13]. Та же логика справедлива и в отношении еврозоны. В случае с коллапсом СССР прибалтийские республики были единственными, кто покинул общую валютную зону по националистическим причинам. И не случайно поэтому их выход из Союза был наименее болезненным. Другие бывшие республики были вынуждены выйти из этой зоны или из опасений подвергнуться потрясениям извне, или по причине желания сеньоража, и их исход был гораздо более болезненным. Однако в случае с еврозоной национализм не станет главным стимулом выхода из нее ни для одной из стран-членов ЕС. Следовательно, стоит более пристально рассмотреть, как падение рублевой зоны происходило не в странах Балтии, а в других странах постсоветского пространства. В контексте этого опыта бывшего СССР конец рублевой зоны предостерегает ЕС против рациональных ожиданий якобы возможности благодушного и спокойного выхода из общего валютного пространства. Как отметил историк Гарольд Джеймс, «выход, подобный этому, всегда хаотичен и ведет к потере доходов и к инфляции» [14]. Другим поводом для беспокойства стало то обстоятельство, что сохранение монетарного союза в случае политической дезинтеграции будет просто невозможно. В 1991 году президенты России, Белоруссии и Украины решили положить конец Советскому Союзу. При этом они надеялись сохранить общую валюту при независимом управлении государствами. Однако последующие два года показали, что она не может существовать в условиях высокой инфляции и разорванных политических связей. Усилиям России обуздать гиперинфляцию и совершить переход к рыночной экономике угрожала проинфляционная политика других республик. Таким образом, логика рыночных реформ шла вразрез с намерением уберечь от изменений рублевую зону, что привело к отмене общей валюты. Поэтому когда политические аналитики размышляют о желательности «северного евро» или «южного евро» и о перспективах их появления, им следует вспоминать о той памятной встрече на высшем уровне, ознаменовавшей конец Советского Союза. Им следует также учитывать одно очень важное обстоятельство. Руководители России, Белоруссии и Украины помышляли вовсе не о похоронах, а, напротив, о рождении более крепкого и хорошо функционирующего союза между странами, имеющими больше сходств, нежели различий во взглядах и интересах. Но предполагаемое начало оказалось действительным концом, потому что если процесс распада запущен, никому не под силу остановить его на полпути. Подчеркнем, что стремление построить более сплоченный Евросоюз по принципу сходства, а не различия государств-членов, может привести к дезинтеграции. Это случится именно тогда, когда и политические элиты, и народ выразят неудовлетворение существующим положением вещей, будучи в то же время испуганы перспективой распада Союза, который не впишется в будущее глобального мира. Седьмой, и самый тревожащий урок, который преподнес СССР, касается проблемы гибкости. При угрозе дезинтеграции политическим деятелям следует делать ставку на гибкость и удерживаться от естественного побуждения быть жесткими в действиях и принятии решений, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Ведь если эти решения окажутся неудачными, они только подстегнут процесс распада. К сожалению, в настоящий момент творцы европейской политики пытаются сохранить Союз, принимая решения, решительно ограничивающие выбор как национальных правительств, так и народа. Так, избиратели в странах, подобных Италии и Греции, могут сменить правительства, но не могут изменить политику, поскольку творцы экономических решений не избираются на выборах. Такая стратегия обещает более стабильную структуру государственных институтов, но она же порождает опасность непредсказуемых реакций со стороны народных масс. Сердцевиной же европейского проекта является приоритет политики. Европейцы вынесли из уроков 1920-х и 1930-х годов убеждение, что демократия должна «корректировать» рынки в целях достижения политической и социальной стабильности. Нынешние политики, поощряемые европейскими лидерами, пытаются в новом издании Евросоюза лишить политику прежней главенствующей роли. Они надеются, что новая политика финансовой дисциплины уменьшит политический прессинг в сторону ЕС. Но пока эксперты спорят, взвешивают все за и против жестких политических мер, есть риск упустить из виду важнейшую вещь: провал жесткой политики автоматически подстегнет кризис, и таким образом сделает выживание Союза еще более трудным. Сейчас уже очевидно, что ЕС не может уцелеть, если общая валюта не поддерживается общим стратегическим валютным запасом. Но может ли выжить ЕС как союз аскетичных государств, где творцы экономических решений не избираются на выборах, и поэтому политика Евросоюза оказывается только политикой европейской идентичности? Как ответ на тезис «альтернативы все равно не существует» в народ может очень скоро пойти утверждение «любая альтернатива лучше». Итак, какой же урок могут извлечь европейские лидеры из краха Советского Союза? Прежде всего, уяснить: чтобы выжить, нужно сперва точно понять свои страхи, потому что, как замечает Макбет после встречи с ведьмами, «подлинные страхи слабей, чем ужасы воображенья» (перевод М. Лозинского). Источник: The Centre for European Policy Studies Примечания 1. Walter Laqueur (ed.), Soviet Union 2000: Reform or Revolution, New York, NY: St. Martin’s Press, 1990,p. xi. 2. European Commission, Future of Europe, Special Eurobarometer 379, Brussels, April 2012 (http://ec.europa.eu/public_opinion/a...ebs_379_en.pdf). 3. Transatlantic Trends 2012 — ежегодный обзор публичных мнений в США и Европе. Исследование проводилось в период 2—27 июня 2012 г. в США, Турции и России (впервые) и в 12 странах — старых членах ЕС (http://trends.gmfus.org/transatlantictrends/). 4. Barbara Ellen, "We had that Mr Hitler in history again, Mum...", Guardian, 1 July 2012 (http://www.guardian.co.uk/commentisf...an-kids-nazism). 5. European Commission, Future of Europe (2012), op. cit. 6. Martin Malia, The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991, New York, NY: Free Press, 2008. 7. Egor Gadar, Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia, Washington, D.C.: Brookings Institution, Press, 2007. 8. C. Fred Bergsten, "Why the Euro Will Survive: Completing the Continent’s Half-Built House", Foreign Affairs, September/October, 2012. 9. George Soros, "The Tragedy of the European Union and How to Resolve It", New York Review of Books, 27 September 2012. 10. Adam Tooze, "Germany’s Unsustainable Growth: Austerity Now, Stagnation Later", Foreign Affairs, September/October, 2012. 11. Ulrike Gurot and Mark Leonard, The New German Question: How Europe Can Get the Germany it Needs, ECFR Policy Brief, European Council of Foreign Relations, London, April 2011 (www.ecfr.eu). 12. Stephen Kotkin, Armageddon Averted, Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 107. 13. Patrick Conway, "Currency Proliferation: The Monetary Legacy of the Soviet Union", Essays in International Finance 197, Princeton University, June 1995. 14. Catherine Hickley, "Euro Breakup Precedent Seen when 15 State-Ruble Zone Fell Apart", Bloomberg.com, 8 June 2012 (http://www.bloomberg.com/news/2012-0...e-zone-fell-ap.... Сcылка: http://gefter.ru/archive/6740 |
|
#607
|
||||
|
||||
|
http://www.stoletie.ru/territoriya_i...neviki_230.htm
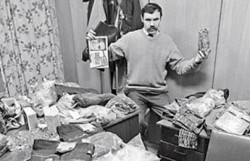 Капитализм в недрах СССР подспудно вызревал на протяжении трех десятилетий 14.02.2014 Эрозия социалистической модели началось задолго до трагических событий декабря 1991 года, когда было подписано соглашение о разделе СССР в Беловежской пуще. Это не только дата развала СССР, но и дата полной легализации новой социально-экономической модели под названием «капитализм». Советская экономика де-факто уже давно приобрела черты многоукладной. В ней сочетались социалистический и капиталистический уклады. Впрочем, некоторые зарубежные исследователи и политики заявляли, что де-факто в СССР произошла полная реставрация капитализма еще в 1960-е–1970-е. Реставрация капитализма увязывалась с появлением и развитием в недрах СССР так называемой «теневой», или «второй» экономики. В частности, еще в начале 1960-х. член Германской компартии Вилли Дикхут начал публикацию своих статей, в которых он констатировал, что с приходом к власти в нашей стране Н.С. Хрущева произошла (не началась, а именно произошла) реставрация капитализма в СССР. Социально-экономическая модель эпохи «застоя» СССР прямо называется экспертами «государственным капитализмом». Формально приватизации государственных предприятий не было, но они находились в безраздельном распоряжении партийно-государственной бюрократии - «номенклатуры». Что же представляла из себя «теневая» экономика? «Теневая» экономика функционировала на принципах, отличных от социалистических. Так или иначе, она была связана с коррупцией, хищениями государственного имущества, получением нетрудовых доходов, нарушением законов (или использованием «дыр» в законодательстве). При этом не следует путать «теневую» экономику с «неофициальной» экономикой, которая не противоречила законам и принципам социалистического строя, а лишь дополняла экономику «официальную». Прежде всего, это индивидуальная трудовая деятельность. Например, работа колхозника на приусадебном участке или горожанина на своем дачном участке. А при Сталине широкое развитие получила так называемая «промысловая кооперация», которая была занята производством потребительских товаров и услуг. Для описания «теневой» экономики СССР использовались такие термины, которые не всегда понятны современному человеку. Одним из ключевых понятий было «цеховик». Речь идет о предпринимателе, который организовывал подпольное производство дефицитных потребительских товаров – одежды, белья, шуб, головных уборов, обуви, солнцезащитных очков, дамских сумочек, дисков с музыкальными записями и т.п. Чаще всего, такое производство осуществлялось на площадях государственных предприятий, с использованием государственного оборудования и неучтенного (похищенного) сырья. Хотя в некоторых случаях использовались специально оборудованные помещения, находившиеся за пределами предприятий и фабрик. Другое понятие – «барыга». Это предприниматель, который действовал не в сфере производства, а исключительно в сфере обращения товаров. В первую очередь, товаров потребительских, которые были предназначены изначально для реализации через государственную торговую сеть по установленным фиксированным ценам. Барыги организовывали реализацию этих товаров по различным каналам по повышенным ценам. В товарно-распределительных цепочках «теневой» торговли могут быть задействованы сотни и тысячи людей. Постепенно барыги стали прибирать к своим рукам и реализацию тех товаров, которые не относятся к категории потребительских. Это бензин, черные и цветные металлы, лесоматериалы, кирпич, цемент, другие стройматериалы и др. Покупателями этих товаров были упомянутые выше цеховики, а также отдельные граждане (например, для индивидуального строительства). Спекулятивными операциями с иностранной валютой и драгоценными металлами занимались «валютчики». Обычно действовали они в тесном взаимодействии с фарцовщиками, которые занимались реализацией товаров, выменянных или перекупленных у иностранцев. Этот вид спекуляции существовал преимущественно в Москве, Ленинграде и крупных портовых городах. Фарцовщики стали достаточно распространенным явлением после VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Кроме импорта реализовывалась и советская продукция (зачастую под видом фирменной), создававшаяся в подпольных цехах. Продажами и перепродажами товаров по ценам более высоким, чем государственные, занимались «спекулянты». Они действовали в одиночку. Были еще и так называемые «шабашники» - бригады, занятые на строительстве различных сельских объектов. Заказчиками строительных работ выступали колхозы и совхозы, которые на эти цели получали большие деньги из бюджета. Потребность в шабашниках была обусловлена тем, что государственных строительных организаций на селе катастрофически не хватало. Взаимоотношения шабашников с колхозами и совхозами не регулировались четкими нормами, что создавало питательную почву для хищения бюджетных средств и строительных материалов как строителями, так и заказчиками. Шабашники – пример «серой» зоны в советской экономике. Деятельность в таких зонах не запрещалась, но плохо регламентировалась, что создавало благоприятные условия для злоупотреблений. По данным УБХСС МВД СССР, в 1983 году в стране насчитывалось 40 тыс. бригад шабашников с общей численностью работников 280 тыс. человек. Кстати, таким же невнятным был статус так называемых «студенческих стройотрядов», которые были похожи на бригады шабашников. В 1970-е появилось понятие «экономическая преступность». Большая часть крупных преступлений в СССР, уже начиная с конца 1950-х, имела все признаки подобных преступлений. Другие преступления называли «профессиональной преступностью»; это были убийства, разбои, воровские сети, контрабанда, мошенничество и другие действия, перечисленные в Уголовном кодексе СССР. Грань между экономической и профессиональной преступностью была достаточно условной, поскольку большая часть преступлений имела ярко выраженную мотивацию обогащения. Постепенно эта грань стиралась. В 1970 г. в Киеве проходил всесоюзный сход воров в законе. На этом сходе было принято решение о том, что «профессиональные» воры в законе начинают «крышевать» цеховиков, барыг и прочих деятелей «теневой» экономики. В том числе (и даже в первую очередь) обеспечивают защиту «экономической мафии» от «наездов» со стороны милиции и других правоохранительных органов. В 1979 г. в Кисловодске произошел сход воров в законе и представителей «экономической мафии», на котором произошло окончательное сращивание профессиональной и экономической преступности. На этом «съезде» было принято решение о том, что деятели «теневого» бизнеса отчисляют 10% своей прибыли в общую кассу, а профессиональные воры в законе обеспечивают защиту («крышевание») бизнеса. Мало того, что «теневой» капитал сращивался с организованной преступностью, он также сращивался с партийно-государственной номенклатурой. Сначала это происходило на местном (региональном) уровне. Правильнее даже сказать, что это было не сращивание. Экономическая мафия «покупала» эту номенклатуру и заставляла ее действовать в своих интересах. Так было в 1960-е годы. А к началу 1970-х подпольный капитал вышел уже на уровень партийно-государственного руководства ряда союзных республик. Особенно наглядно это показали две крупные чистки, которые были проведены КГБ СССР в Азербайджане и Грузии. Удалось доказать, что крупные суммы денег стекались в ЦК КПСС Азербайджанской ССР и в руки лично первому секретарю В. Ахундову. Далее они уходили за границу и размещались в зарубежных банках. Были арестованы несколько сот партийных функционеров уровней секретаря райкома, председателей райисполкомов, районных прокуроров и т.д. Аналогичная операция была проведена в Азербайджане. С середины 1970-х начинается расследование так называемого «хлопкового», или «узбекского» дела, в ходе которого были раскрыты связи «теневиков» с первыми лицами Узбекистана. Операциями по расследованию деятельности экономической мафии в республиках в 1970-е гг. руководил председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов. Тогда еще экономическая мафия не дотянулась до партийно-государственных органов власти в Москве. Но в 1980-е годы, особенно после прихода на пост Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, захват власти теневым капиталом произошел и в Москве, и всякая борьба с ним и его сращиванием с «номенклатурой» прекратилась. В СССР государственные и партийные власти предпочитали не замечать таких явлений, как «теневая» экономика и «экономическая преступность». Нет, конечно, правоохранительные органы раскрывали и пресекали различные операции в сфере «теневой» экономики. Но руководители СССР, комментируя подобного рода истории, отделывались фразами типа: «исключения из правила», «отдельные недостатки», «недоработки», «ошибки» и т.п. Например, в начале 1960-х тогдашний первый заместитель Совета Министров СССР Анастас Микоян определил «черный рынок» в СССР как «горсть некой грязной пены, выплывшей на поверхность нашего общества». Тема «теневой» («второй») экономики была табуированной в СССР. Но и в зарубежных СМИ и иностранной специальной литературе она почти не затрагивалась. Видимо, через «железный занавес» информация о «теневой» экономике СССР почти не проникала на Запад. Но вот в 1970-е «занавес» был приоткрыт, несколько тысяч человек покинуло СССР и в качестве эмигрантов оказалось в Израиле, США, некоторых других странах. Это была так называемая «еврейская эмиграция». Одним из таких эмигрантов, оказавшихся в Америке, был советский юрист Константин Симис. В 1982 году он опубликовал книгу «Коррумпированное общество. Тайный мир советского капитализма». До этого, в 1981 году вышла статья Симиса в авторитетном журнале «Форчун» под названием «Подпольные миллионеры в России», которая была перепечатана в еще более авторитетном журнале «Тайм». Автор в период 1953-1971 гг. тесно соприкасался с некоторыми «теневиками», адвокатом которых он выступал на судебных процессах (позднее он работал в качестве эксперта по международному праву в министерстве юстиции СССР). Количественных оценок «теневой» («второй») экономики К. Симис не дает. Вместе с тем, он называет имена некоторых подпольных советских миллионеров. Например, он называет империю Глазенбергов (три брата), которая владела большим количеством подпольных предприятий и имела торговые базы в 64 городах и регионах СССР. Симис обращает внимание на некоторые особенности «теневой» экономики СССР. Как следует из самого названия его книги, «теневая» экономика в СССР существовала на основе коррупции и становилась источником распространения коррупции. Подпольные бизнесмены давали взятки директорам предприятий, районным государственным и партийным руководителям для «прикрытия» их «теневого» бизнеса. Взятки использовались и для целей, непосредственно не связанных с «теневым» бизнесом. Например, для получения нужных должностей в государственном и хозяйственном аппарате, для устройства детей в ВУЗы, для выезда за границу и т.д. Взятки могли иметь как денежную форму, так и натуральную (дорогие подарки, встречные услуги). Многие подпольные бизнесмены вели двойную жизнь. Они часто были достаточно известными людьми, занимавшими какие-то официальные должности, при этом были членами КПСС. Они охотно вступали в коммунистическую партию исключительно из соображений выгоды, с целью укрепить свое общественное положение и гарантировать себе какую-то защиту от уголовного преследования со стороны ОБХСС. Свои богатства подпольные миллионеры не выставляли напоказ. Основная часть капитала «теневых» бизнесменов материализовалась в золоте, драгоценных камнях, антиквариате, иногда – в иностранной валюте. Все это хранилось в тайниках, подальше от глаз простого народа и правоохранительных органов. Примечательно, что К. Симис в своей книге указал на угрозу со стороны подпольных миллионеров для социалистической государственности: «И все же, что мы знаем об их владельцах (владельцах тайников – В.К.)? Чего они ждут? Будущего из области фантазии, когда они смогут извлечь из тайников свои богатства и по-царски распорядиться ими? Или они ждут падения советского режима?» Это самое «падение советского режима» произошло через десять лет после появления публикаций К. Симиса. Намек Симиса советское руководство не восприняло всерьез. По крайней мере, никаких радикальных действий власти за этим не последовало. Вот лишь некоторые данные по результатам этих исследований. 1. В 1979 г. незаконное производство вина, пива и других спиртных напитков, а также спекулятивная перепродажа спиртных напитков, произведенных в «первой экономике», обеспечили доходы, равные 2,2% ВНП (валовой национальный продукт). 2. В конце 1970-х гг. в СССР процветал «теневой» рынок бензина. От 33 до 65% покупок бензина в городских районах страны индивидуальными владельцами автомобилей приходилось на бензин, продаваемый водителями государственных предприятий и организаций (бензин продавался по цене ниже государственной). 3. В советских парикмахерских «левые» доходы превышали суммы, которые клиенты уплачивали через кассы. Это лишь один из примеров того, что некоторые государственные предприятия де-факто принадлежали ко «второй экономике». 4. В 1974 г. на долю работы на частных и приусадебных участках приходилось уже почти 1/3 всего рабочего времени в сельском хозяйстве. А это составляло почти 1/10 всего рабочего времени в экономике СССР. 5. В 1970-е примерно ¼ продукции сельского хозяйства производилась на личных участках, значительная ее часть направлялась на колхозные рынки. 6. В конце 1970-х около 30% всех доходов городского населения были получены за счет различных видов частной деятельности (как законной, так и незаконной). 7. К концу 1970-х удельный вес лиц, занятых во «второй экономике», доходил до 10-12% общей численности рабочей силы в СССР. В конце 1980-х появился ряд работ по «теневой», «второй» экономике и в СССР. По их данным, годовая стоимость нелегально произведенных товаров и услуг в начале 1960-х составляла примерно 5 млрд. руб., а в конце 1980-х гг. достигала уже 90 млрд. руб. В текущих ценах ВНП СССР составлял (млрд. руб.): 1960 г. – 195; 1990 г. – 701. Таким образом, экономика СССР за тридцатилетие выросла в 3,6 раза, а «теневая» экономика – в 14 раз. Если в 1960 году «теневая» экономика по отношению к официальному ВНП составляла 3,4%, то к 1988-м этот показатель вырос до 20%. Правда, в 1990 году он был равен 12,5%. Такой спад был обусловлен изменением советского законодательства, которое перевело в разряд легальных целый ряд видов экономической деятельности, которые ранее считались незаконными. Число занятых в «теневой» экономике, по оценкам экспертов, в начале 1960-х гг. составляло 6 млн. человек, а в 1974 г. оно возросло до 17-20 млн. Это - 6-7% населения страны. В 1989 году таких «теневиков» было уже 30 млн., или 12% численности населения СССР. И американские, и советские исследователи обращают внимание на некоторые особенности «теневой» экономики и ее влияние на общую обстановку в СССР. «Теневая» экономика как заметное явление советской жизни возникло в конце 1950-х – начале 1960-х. Все исследователи однозначно связывают ее с приходом к власти в стране Н.С. Хрущева, который рядом своих непродуманных решений выпустил из бутылки джина «теневой экономики». Хрущев уничтожил мелкотоварное производство, созданное Сталиным (те же промысловые артели в городах) и на его место тут же пришли «теневики». «Теневая» экономика была более развита не в центральных регионах СССР, а на периферии страны. В конце 1970-х доля доходов от «второй» экономики составляла около 30% всех доходов городского населения в масштабах СССР. При этом в РСФСР она приближалась к среднему значению по стране, а в регионе Белоруссии, Молдавии и Украины среднее значение было около 40%, в Закавказье и Средней Азии – почти 50%. В Армении среди этнических армян показатель достигал 65%. Гипертрофированное развитие «второй» экономики в ряде союзных республик создавало иллюзию того, что эти регионы «самодостаточны». Мол, они имеют более высокий жизненный уровень, чем Россия, и могут вполне существовать и развиваться вне Союза ССР. Все это создавало благоприятную почву для сепаратистских движений в национальных республиках. «Теневая экономика» существовала за счет государственных ресурсов, значительная ее часть могла нормально функционировать при условии хищения материальных ресурсов государственных предприятий и организаций. Таким образом, создавалась иллюзия, что «теневая экономика» восполняла недостатки «белой» экономики. Происходило просто-напросто «перераспределение» ресурсов из государственного (и колхозного) сектора экономики в «теневой». Кроме того, «теневая» экономика подрывала систему централизованного управления народным хозяйством в СССР. Изначально все управление осуществлялось из центра, по вертикали. Позднее государственные предприятия стали выстраивать между собой неформальные отношения по горизонтали. Это были различные бартерные операции, о которых предприятия могли даже не информировать центр. Это тоже была «теневая» экономика внутри государственного сектора хозяйства. В исследованиях, посвященных «теневой» экономике СССР, довольно часто приводятся сравнения с другими социалистическими странами. Там «теневая» экономика процветала не меньше, а иногда и больше, чем в Советском Союзе. В качестве примера чаще всего используется Польша. Впрочем, уже в первой половине 1980-х в Польше, которая формально оставалась социалистическим государством, «теневая» экономика начала исчезать по той причине, что мелкий и средний бизнес был легализован. «Теневая экономика» в СССР порождала коррупцию. Хозяева «теневых» структур занимались подкупом руководителей и функционеров государственных предприятий и организаций. С какой целью? Чтобы те как минимум не мешали «теневому» бизнесу. А как максимум, чтобы становились соучастниками такого бизнеса, оказывая содействие в снабжении сырьем, товарами, транспортными средствами и т.п. Это первый, микроэкономический уровень коррупции. Далее следует второй, региональный уровень, который связан с подкупом правоохранительных органов и вообще органов государственной власти на местах. А также партийных органов (райкомов, горкомов КПСС). Создается система регионального «крышевания» «теневого» бизнеса. Наконец, коррупция выходит на третий, общегосударственный уровень. «Теневики» начинают лоббировать свои экономические интересы в министерствах и ведомствах и даже правительстве. Некоторые авторы полагают, что экономическая реформа Косыгина-Либермана (1965-1969 гг.) была «продавлена» «теневым» капиталом. Экономика лишь формально продолжает развиваться как «плановая». Управленческие экономические решения на общегосударственном уровне начинают приниматься под влиянием «теневиков». Хозяева теневого бизнеса накапливают такие громадные капиталы, которые позволяют им заниматься уже лоббированием политической власти в стране. «Теневикам» становится тесно в рамках даже формального социалистического способа производства. И они начинают готовить полную реставрацию капитализма. Она и произошла в период нахождения у власти М. Горбачева под прикрытием лживых лозунгов «перестройки». Эта «перестройка», в конечном счете, была инициирована не М. Горбачевым или А. Яковлевым. Она была организована «теневым» капиталом, по указкам которого и действовали «реформаторы» из КПСС. Таким образом, «теневики» обладали очень большим влиянием во многих союзных республиках. Они поддерживали сепаратистские движения в регионах и сыграли важную роль в развале СССР. профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова. Специально для «Столетия» |
|
#608
|
||||
|
||||
|
http://file-rf.ru/analitics/1064
Часть II 31 января 11:13 Владимир Поляков Продолжаем разговор с известным дипломатом, политиком, историком Валентином ФАЛИНЫМ о сложных моментах летописи нашей страны.  Валентин Фалин. Фото: Алексей Исаев / «Файл-РФ». – Валентин Михайлович, в Великой Отечественной войне СССР выстоял и победил благодаря невероятным усилиям всего советского народа… – Да, советский народ победил. «Мы за ценой не постоим», – думали в Отечественную стар и млад, женщины и мужчины. Не только комсомольцы и коммунисты, на которых приходилась треть потерь в борьбе с врагом (при удельном весе членов ВКП (б) в тогдашнем обществе 3–4%). Не будем ёрничать, без железной хватки Сталина-диктатора страна могла бы рухнуть в 1941–1942 годах. В июле 1941 года британцы отводили нам на существование от 4 до 6 недель. Руководство США полагало, что рейх «высвободит ноги из русской трясины» за полтора, максимум три месяца, хотя те же американцы могли бы вычитать из текста операции «Барбаросса» (они располагали его полной версией с 10 января 1941 г.), что нацисты примерялись водрузить победный флаг где-то к октябрю. Так политики и их обслуга просчитываются, когда желаемое принимают за действительное. Поворотным событием Второй мировой стала Московская битва. В декабре 1941 года Гитлер в узком кругу признал: военной победы рейху не видать. Доктрина блицкригов, позволившая поставить под пяту почти всю Европу, обнаружила несостоятельность на российских просторах. В позиционной войне Германия была загодя обречена. На горизонте замаячило блиц-поражение. Прояви США и Англия зимой 1941–1942 годов готовность не только к «товарищескому рукопожатию», но и к ратному взаимодействию с СССР, третий рейх скончался бы не позднее весны-лета 1943 года. – Почему же кровопролитие в Европе затянулось ещё на два года? – В наличие избыток доказательств – «чрезмерная витальность» СССР и перспектива его «избыточного влияния» на архитектонику послевоенного мира скверно вписывались в концепции тогдашних наших союзников. 1945 год. Худшее, казалось, минуло, и можно вплотную заняться качественным обновлением международных отношений на основе добрососедства, терпимости, уважения международно-правовых установлений, что торжественно провозгласили учредители Организации Объединённых Наций. На поверку оказалось, что власть предержащие в США и Англии под одним подписывались в Тегеране, Ялте, Потсдаме и совсем иное держали в уме. Черчиллю не терпелось развязать третью мировую (операция «Немыслимое»). Трумэн сосредоточился на капитализации козырей, которыми наделил его осёдланный военный атом. Преемника Рузвельта и его приспешников не смущали заимствования из нацистского кредо. Гитлер, Геринг, Розенберг подчёркивали: Россия должна исчезнуть с политической карты независимо от того, какой – царский или любой иной – строй в ней правит. Администрация Трумэна приняла в 1946 году за отправной пункт «обновлённой» стратегии – какую бы политику ни проводила Москва, само существование СССР несовместимо с безопасностью Соединённых Штатов. Чтобы сломить волю нашего народа к сопротивлению, нацисты планировали в течение двух лет уничтожить несколько десятков миллионов россиян. Американцы прикидывали в тех же целях «вывести из строя» упреждающим ядерным ударом 60–70 миллионов человек. Примем к сведению: первые наброски испепеления 15 советских городов делались спецами из ВВС США в августе 1945 года – ещё до капитуляции Японии, но с учётом применения атомных бомб против Хиросимы и Нагасаки. Воздержусь от углублений в сию мрачную материю. Приведённые факты, однако, проясняют, как и почему все усилия Москвы сохранить хотя бы отчасти конструктивный капитал, наработанный антигитлеровской коалицией, наталкивались на обструкцию «демократов». – Но в 45-м война для СССР по сути не окончилась?.. – Развязанная Западом холодная война поглотила больше жизней, чем Первая мировая. И некое чудо уберегло человечество от ещё худших испытаний. Запредельным напряжением сил Советский Союз одолел атомную монополию Вашингтона, лишил США «неуязвимости», на которой столь долго и не без навара паразитировала их верхушка. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Особенно много умников не прочь попозировать, перемывая сегодня кости активным актёрам ключевых событий ХХ века. Формальная логика приводит нас из пункта А в пункт Б, рассуждал Эйнштейн. А воображение – куда угодно. Помимо наглых вызовов, бросавшихся Советскому Союзу новоявленными претендентами на мировое господство, донесения разведки не позволяли советскому руководству ни на минуту расслабиться и после победного 1945 года. Не перебор утверждение, что после окончания Второй мировой у нас было даже меньше оснований для благодушия, чем в кризисные 1939–1941 годы. Благодаря разведке Сталин располагал точной информацией о подготовке Соединённых Штатов к ядерному нападению на СССР. Час Икс назначался на 1949 год, был перенесён на 1952 год, наконец, застолблен на 1957 году. Должен ли был и как распорядиться наш постаревший лидер, вчитываясь, скажем, в план «Дропшот» (ноябрь 1949 г.), утверждённый президентом Трумэном в качестве основы внешней и военной политики Штатов, а также блока НАТО? В любом случае избегать ловушек типа операции «Раскол», что расставлялись спецслужбами США и Англии, дабы спровоцировать новые зачистки как внутри страны, так и в Чехословакии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии. Учинённый Соединёнными Штатами раскол Германии, намерение учредить сепаратное западногерманское государство, перевооружить и включить его в формировавшиеся военные блоки понудило Москву сместить румб. От даллесовского «балансирования на грани войны» требовалось оградиться оборонительным поясом из союзных государств. Только так, полагали Сталин и его советники, можно было свести к минимуму издержки осады, пока не сломлены атомная монополия США и их подавляющее превосходство в средствах доставки ядерного оружия к целям. Август 1949-го. Первые испытания боевого ядерного устройства в СССР. Год спустя американские аналитики начали принимать во внимание возможный «ограниченный ущерб для континентальной части США» в случае ответного советского удара. В 1954–1956 годах и «ястребы», заклинившиеся на силовых решениях, оказались вынужденными считаться с тем, что приговор Советскому Союзу равнозначен самоубийству США. Выводы, однако, последовали сугубо американского свойства – коль нахрапом противника не взять, к военному прессу извне надобно прибавить подрывные действия иного порядка. Советское руководство тщательно регистрировало приливы и отливы американской агрессивности. «Гарантированное взаимное уничтожение» приглашало стороны к раздумьям о модус вивенди. По инициативе Сталина 10 марта 1952 года было озвучено предложение о воссоединении Германии на основе свободного волеизъявления немцев, касающегося, в частности, её будущего социального устройства. Предусматривались разработка с участием общегерманского правительства мирного договора, вывод войск четырёх держав-победительниц, право Германии создать собственную оборонительную армию. Одоление раскола Германии означало бы преодоление раскола Европы. Адекватной реакции с Запада не последовало. Шанс разруливания ситуации в конструктивное русло в очередной раз был упущен. – В ту пору Вам довелось работать в Комитете информации при МИД… – Так именовался центр, готовивший аналитические материалы по важным международным проблемам для Сталина. По согласованию с его секретариатом материалы могли посылаться другим членам руководства. В декабре 1952 года при моём участии была подготовлена записка о дискуссиях в свободно-демократической партии ФРГ на предмет выхода из коалиции с Аденауэром. Либералы собирались выразить таким образом протест против пресмыкательства Бонна перед тремя западными державами. Вашингтону с трудом удалось утихомирить фронду. Упоминаю сей эпизод потому, что германская проблематика занимала Сталина до конца жизни. Он полагал, что расчленение Германии противоречило «стратегическим интересам СССР». Наследники ещё у гроба вождя занялись дележом власти. Особую активность развили Берия и Хрущёв. Косвенно в перетягивание каната оказался вовлечённым Комитет информации. Ему было поручено подготовить записку о возможной динамике развития Германии с учётом перемен, совершившихся в Москве, а также предстоявших осенью 1953 года новых выборов в бундестаг ФРГ. Оказалось, что наши представления существенно разошлись с оценками разведки, авторизованными Берией. Последний без согласования с другими членами политбюро распорядился задействовать его «личных агентов» для прояснения: какую компенсацию «демократы» готовы будут выплатить СССР в ответ на его согласие с западными условиями объединения Германии. Телефонный звонок Берии Ивану Ивановичу Тугаринову, и. о. председателя Комитета информации (я присутствовал при состоявшемся разговоре): Берия: Откуда вы взяли, что социал-демократы не одолеют партию Аденауэра на осенних выборах? У моих ребят другое мнение. Тугаринов: Объективные данные не отводят СДПГ больших шансов. И главное – в случае успеха социал-демократы едва ли сумеют освободить ФРГ от пут, которыми повязали её три державы. Берия: Почему комитет заставляет членов политбюро гадать, что у твоих экспертов на уме? Если не можете ясно писать, вообще не пишите. Срываюсь и вполголоса замечаю: «А может, незачем писать тому, кто не умеет читать?» Берия: Кто там у тебя бурчит? Упомяни Тугаринов имя автора, пришлось бы мне, наверное, пройти все круги ада. В 1951–1953 годах я шёл (естественно, сам не зная того, в «мегрельском деле», затеянном подручным Берии Рухадзе) в качестве резидента французской разведки в СССР. Неисповедимы пути твои, Господи. Самовольство Берии с реанимацией мартовской (1953 г.) инициативы Сталина в германских делах Хрущёв использовал для свержения своего могущественного соперника: «Империалистический агент Лаврентий Берия собирался предать социалистического союзника ГДР!» Это было центральным и решающим пунктом приговора, вынесенного специальным трибуналом в процессе над Берией. Приметим, Сталин настоятельно рекомендовал руководителям восточной зоны, а с 1949 года Германской Демократической Республики, воздерживаться от «социалистических экспериментов». Задача, подчёркивал он, – довести до ума буржуазную революцию 1848 года, прерванную Отто Бисмарком и сведённую на нет Гитлером. Ров между ФРГ и ГДР не должен был превращаться в бездну. На восстановление единства Германии Сталин отводил 5–7 лет, и поскольку многое зависело от Москвы, предпочитал оставлять недописанными страницы немецкой книги бытия. – Далее пришёл Хрущёв… – Хрущёв без долгих колебаний сдал «демократам» знамя объединения Германии. Развернулось «выстраивание социализма» по всем азимутам с ГДР в качестве коренника сей упряжки… Проставлю здесь многоточие, чтобы невзначай не сказать лишнего. Ошибки, особенно в политике, как внешней, так и внутренней, суть производные от незнания лучшего. Или от нежелания считаться с доводами логики и фактов. А когда фундамент криво заложен, всему зданию криво стоять. Повторюсь – с 1946 года до конца истёкшего столетия линия Вашингтона состояла в том, чтобы не мытьём, так катаньем довести СССР до коллапса. Заглянем в заокеанские святцы. Один из проектов, представленных на подпись президенту Эйзенхауэру, намечал первым «обезоруживающим ударом» убить в СССР и КНР 195 миллионов человек. При обсуждении (август 1977 г.) планов «обезглавливания Советского Союза» речь шла об уничтожении 113 млн русских. Бжезинскому, участвовавшему в данной сходке, эта формула показалась слишком общей. Он потребовал так переформулировать директивы, чтобы удары нацеливались прежде всего на «великороссов», главного врага «тотальной демократизации». Излишне, наверное, замечать, что американские штабы занимались не бумаготворчеством. Под их запросы выделялись несметные миллиарды долларов, мобилизовывались научные лаборатории, корпевшие над совершенствованием оружия массового поражения – ядерного, химического, биологического. Полутора тысячами, если не больше, военных баз и других объектов окружили Советский Союз. Треть стратегической авиации США постоянно барражировала в воздухе, до половины ракетоносцев держали наготове в море. Сплошная милитаризация глобуса. Никто сего не оспорит. Но медаль всегда о двух сторонах. По злой воле или самопроизвольно арсеналы изрыгнут смерть, вздыбят землю, выплеснут из океана воду. Что дальше? США и СССР озаботились к 70-м годам скопить ядерное оружие в количестве, гарантировавшем 30–50-кратное уничтожение друг друга, а заодно и всего живого на Земле. Призрак ядерной зимы взошёл на горизонте. Лишь некоторые отпетые «оптимисты» тешили себя иллюзией, относили себя к примерно 5% землян, кои могли всё-таки уцелеть, запрятавшись в бункеры и пещеры. Вайнбергер, министр обороны в администрации Рейгана, настаивал на повышении оборотов в гонке вооружений, чтобы доконать советскую экономику и урезать возможности СССР помогать друзьям. В свою очередь мы, эксперты, убеждали политбюро, что наша «самая внешняя» есть «самая внутренняя». Иначе говоря, качество внутреннего климата – неотрывная составляющая в состязании систем. Эти сигналы портили настроение начальства и мало способствовали заземлению нашей внешней и внутренней политики. В 1958 году по навету министра внутренних дел Серова – Комитет информации вторгается в несвойственные ему сферы – Хрущёв распустил наше учреждение. Вместе с двумя коллегами по комитету я направил на имя первого секретаря ЦК докладную записку, в которой подчёркивалась необходимость, потребность в существовании аналитического центра, независимого от силовых, разведывательных и политических ведомств. В результате возник отдел информации ЦК КПСС. Ему вменялось готовить к каждому заседанию политбюро обзор мировой ситуации и аннотировать материалы, касавшиеся концептуальных аспектов внешней политики, вносившиеся на рассмотрение данной инстанции. Прошло с полгода. Хрущёв потряс атмосферу предложением превратить Западный Берлин в «вольный город» – в третью самостоятельную структуру, не входящую в состав ГДР или ФРГ. Если США, Англия и Франция отвергнут сей проект, СССР вынужден будет заключить мирный договор с ГДР и передать ей контрольные функции за коммуникациями города с внешним миром. Георгий Пушкин, заведующий новым отделом, оснащённый солидными выкладками, отправился на доклад к Хрущёву. Услышав, что «вольного города» из Западного Берлина не получится, а если мы попытаемся силком навязать ему нашу модель, то не исключён вооружённый конфликт, Никита Сергеевич отрезал: ерунда, войны не будет, если даже советские войска вступят в Западный Берлин. Слушать Пушкина дальше не стал, распорядился бумагами отдела информации его больше не утруждать. Через месяц-другой Хрущёв спросил коллег: «А что, отдел информации ещё существует? А что, ЦК без него не проживёт?» И сам же ответил: «Контору распустить». Позднее мне пришлось быть невольным свидетелем подобных спонтанных извержений Хрущёва и не его одного на нашем Олимпе-Везувии. – После смерти Сталина ситуация в стране развивалась непредсказуемо… – Накануне ХХ съезда КПСС, когда свергался с пьедестала Сталин, Хрущёв обязал несколько бригад, состоявших из работников спецслужб, прочесать досье «врагов народа», ликвидированных при Менжинском, Ягоде, Ежове и Берии. Замарывались подписи Хрущёва под расстрельными списками, наиболее одиозные листы вырывались. Возможности познать истинные мотивы поведения «отца народов» затруднительны, ибо по приказу Хрущёва были сожжены прослушки разговоров «изменников», «шпионов», «заговорщиков». Предположительно в записях «слухачей» могло упоминаться имя Хрущёва. Клаузевиц, анализируя провал наполеоновского и других нашествий, пришёл к заключению – Россию нельзя победить извне, её можно сломать только изнутри. Великая Отечественная воочию доказала, насколько крепок стан России и тверда решимость россиян в отпоре иностранным супостатам. Пока Вашингтон держал мир под своим ядерным колпаком, Москва ставилась перед выбором: либо сломать американскую монополию, либо кануть в Лету. Но следовало ли плестись в хвосте у американского военно-промышленного комплекса, заимствовать чужие поверья после того, как было вырвано жало у апологетов насилия? Андрей Сахаров предлагал уравновесить американское превосходство размещением 100-мегатонных зарядов вдоль Атлантического и Тихоокеанского побережья Штатов. Другие авторитетные конструкторы и разработчики выступали за «асимметричную» реакцию на натовское бряцание оружием. – А что Хрущёв? – Дала знать о себе его склонность к крупному помолу. На слом отправили «плавучие гробы» – с иголочки новый надводный флот. На голодный паёк посадили боевую авиацию. Сумбурные новации не обошли другие рода войск. Ресурсы перебрасывались на конструирование и изготовление всех видов ракет. С ними, оснащёнными ядерными зарядами, сопрягалось обеспечение надёжной защиты наших рубежей. И чтобы ни у кого не осталось сомнений в решимости и способности показать «кузькину мать», Хрущёв провёл в 1961 году беспрецедентную серию ядерных испытаний. Они, надо признать, произвели впечатление и на Соединённые Штаты, и на их партнёров. Трудно оспорить – не СССР задавал темп и тон в гонке вооружений. Просчёт советского руководства от Хрущёва до Черненко сводился к неумению или нежеланию понять, что тотальная война (объявленная или необъявленная – безразлично) не знает пауз, правовых или нравственных табу, заповедных зон. Вашингтон объявил нейтралитет «аморальной политикой», а непредсказуемость поведения на мировой арене – своего, разумеется, и в нарушение договорных обязательств – «стратегическим резервом». Инициатива в подобной войне за тем, у кого экономическое, научно-техническое и позиционное превосходство. Мы, эксперты, при каждой возможности подчёркивали, что при соотношении семь к одному на экономическом базисе в пользу США, Западной Европы и Японии наша манёвроспособность не может не быть ограниченной. В ответ слышалось: «Социализм всё выдержит!» Оракулы, отвешивавшие при каждом удобном и неудобном случае поклоны классикам марксизма, навязывали гегелевскую догму: «Всё разумное существует, всё существующее разумно». Не субъективен тот, кому всё безразлично. У меня предостаточно личных мотивов для вынесения жёсткого вердикта Сталину, в деятельности коего сплавились воедино несовместные гений и злодейство. Пробный камень истории, однако, – правда, вся правда и только правда. Исследователь былого (воспроизведу наказ Александра Сергеевича Пушкина) «не должен хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою… Не его тайное или явное пристрастие должно говорить в трагедии, но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать или обвинять, его дело воскресить минувший век во всей его истине». Архисложная задача, но без её исполнения не приблизимся мы к объективному диагнозу, к разъяснению, отчего России – досоветской, советской, постсоветской – выпадал столь тяжкий жребий. Мифы – не путеводители, уроков на будущее из них не извлечь. |
|
#609
|
||||
|
||||
|
http://file-rf.ru/analitics/1066
Часть III 04 февраля 12:00 Владимир Поляков Предлагаем вниманию читателей заключительную часть беседы с известным дипломатом, политиком, историком Валентином Фалиным.  Валентин Фалин. Фото: Алексей Исаев / «Файл-РФ». – Валентин Михайлович, Вам пришлось покинуть аппарат ЦК КПСС? – Трудно говорить правду, когда не знаешь, что от тебя ждут. Задолго до знакомства с этим афоризмом я присягнул принципу не подлаживаться к авторитетам, большим и помельче, отстаивать свои убеждения, вызывая на себя, если другого не дано, громы и молнии. То, что называют карьерой, интересовало меня постольку, поскольку позволяло реализовывать какие-то познания или хотя бы пробуждать у начальства сомнения в правильности принимаемых им решений. Выше поминалась пара случаев, когда коса находила на камень. Мог бы раскрыть скобки, в которых всё ещё пребывает правда о «пражской весне», тонкостях дискуссий по Московскому договору с ФРГ (1970 г.), размещению в Европе стратегических ракет средней дальности, как и о прочем, что скупо отражено в бумагах. Но такое повествование заняло бы слишком много места, поэтому остановлюсь на событиях, близких нам по времени. Ноябрь 1979 года. Советские войска изготовились войти в Афганистан. В телефонном разговоре с Юрием Владимировичем Андроповым призываю его тщательней всё взвесить, ссылаюсь на провал английских экспедиций XIX века в эту забытую Богом страну. Неожиданно жёсткая реакция председателя КГБ: «Откуда тебе известно о решении направить наши войска в Афганистан? Заруби: если с кем-либо, кроме меня, ещё заговоришь про операцию, пеняй на себя». Октябрь 1982 года. Кабинет Андропова на Старой площади. Он уже секретарь ЦК КПСС, очевидный преемник Брежнева, пригласил меня для сверки календарей: какие важные события подстерегают страну в ближайшее время. Открытым текстом я выражаю тревогу по поводу дезинтеграции советского общества, неадекватности организации власти перед лицом реальных вызовов. Из внешнеполитических тем особо выделил Польшу, где явно раскручивалась драма Катыни. Напросился на поручение – подготовить предложение по затронутым в беседе сюжетам. Войти в контакт с Минобороны, КГБ и МИДом, чтобы разобраться в злоключениях 1939–1941 годов, а также в судьбе советских военнопленных, оказавшихся в 1921–1922 годах у Пилсудского. При встрече с новым председателем КГБ Федорчуком завожу разговор об Афганистане. Наш контингент из сил поддержки защитников апрельской революции превратился в наймитов. Бабрака это может устраивать. Нас – едва ли. Его надо менять. Назвал два имени – Кадыра, генерала, почти до смерти замученного Амином, и Ахмада Шах-Масуда. Последний, по донесениям спецслужб, брался навести «порядок» в стране за 6–8 месяцев. Нашелся некий «добродей», который донёс Андропову, что я плету кружева с КГБ вокруг Катыни, «подставляя бывшего шефа комитета», т. е. Андропова. Юрий Владимирович тут же связался с Федорчуком, и тот посвятил его в мои прикидки по Афганистану. Больной Андропов в гневе забыл о дававшихся мне поручениях и повелел удалить ослушника из аппарата ЦК. «С почётом», предложив мне возглавить службу иновещания в качестве первого заместителя председателя Гостелерадио Лапина. 17 тысяч подчинённых! В ответ Андропов услышал: «Административные игры меня не манят. Я вполне обойдусь без подчинённых при одном, желательно умном начальнике». – Но потом Вы в большую политику вернулись… – С января 1983-го на четыре года я осел в «Известиях». Одновременно работал в Институте США и Канады. Добром вспоминаю это время. Отпала необходимость корпеть над формулированием всяческих правительственных заявлений, проектов постановлений ЦК, речей для вождей. Наряду с публикациями в «Известиях», научных и околонаучных журналах завершил работу над докторской диссертацией по Второй мировой войне. Собирался целиком сосредоточиться на исследовательском поприще, но совершил грубую ошибку – поддавшись на уговоры «перестройщиков», вернулся в большую политику. Вот как это произошло. Горбачёв «попросил» включиться в написание внешнеполитического раздела отчётного доклада ЦК на XXVII съезде КПСС. Яковлев уточнил: можешь доверить бумаге всё, что накопилось на душе с момента вступления на дипломатический паркет. Признаюсь, что не без моего участия складывалась концепция «нового политического мышления», в основу которой закладывалась посылка «внешнее есть производное от внутреннего», а советская военная доктрина не должна повторять под копирку американскую. Я настоял на том, чтобы в докладе в конструктивном ключе подавалась проблематика отношений с КНР. Увы, не удалось убедить заказчика в необходимости принятия новой партийной программы, деловой и транспарентной, взамен риторической хрущёвской. На свет, как известно, появился аморфный гибрид. Согласие войти в перестроечную команду было обусловлено правом обращаться к генсеку по всем важным, на мой взгляд, вопросам, минуя секретариаты и прочие фильтры. Всего за время сотрудничества с ним на стол Горбачёва легло около полусотни моих записок. Устные интервенции не в счёт. Июнь 1986 года. Политбюро созвало совещание с участием руководителей СМИ, видных писателей и политологов, учёных Академии наук. На повестке дня – как сделать задумки перестройки понятными общественности. Беру слово в качестве председателя правления АПН: китайцам понадобилось два года после смерти Мао Цзэдуна, чтобы отмежеваться от культурной революции. Нам недостаёт тридцати лет, чтобы изречь правду не о Сталине-личности, а о сталинизме как идеологии и режиме власти. Если сие не будет сделано сейчас, перестройка лишится будущего. Михаил Горбачёв и Егор Лигачёв полемизируют со мной. Зал – более 160 присутствующих – безмолвствует. Отзвука не нашло также обращение отметить предстоявшее 1000-летие крещения Руси как общенациональный праздник. Перестройка – не шельмование прошлого. Так же, как ни к чему сводить саму перестройку к сплошным провалам. С повторного захода удалось убедить Горбачёва, что без свободы совести не может быть свободы личности, свободы вообще. Весной 1988 года он откликнулся на настоятельную рекомендацию поддержать патриарха Пимена в его усилиях, чтобы 1000-летний юбилей принятия Русью православия совершался на достойном уровне, подобающем великой нации, коя чтит своих праотцов. Генсековское «за» осадило заядлых безбожников, подменявших отлучение церкви от государства отлучением её от народа. Справедливость, высшая из всех добродетелей по античной табели, требует воздать должное первому и последнему президенту СССР за содействие нормализации взаимоотношений светской власти с почитаемыми в стране конфессиями. – То есть с Горбачёвым работать было непросто? – Да, чем дальше, тем не меньше поводов для недоумений. Пересылаю в три адреса – Горбачёву, Яковлеву, Медведеву – аналитическую записку профессора Рэма Белоусова. Видный учёный предостерегал: на рубеже 80–90-х годов страны соцсодружества окажутся в глубокой экономической яме с непредсказуемыми политическими, социальными и прочими издержками. Советский Союз в силу экономических трудностей не сможет подставить им плечо. Никакого отклика. В сентябре 1986 года генсек получил от меня записку: следует раскрыть всю правду о договорённостях с Германией августа-сентября 1939 года и, стало быть, о секретных протоколах по разграничению сфер интересов. Опять-таки обратной связи не обозначилось. Если не изменяет память, в феврале 1987 года тема секретных протоколов всплыла на заседании политбюро. Большинство высказалось за признание факта: протоколы, продиктованные тогдашними обстоятельствами, существовали. Резюмируя обмен мнениями, Горбачёв заявил: пока оригиналы документов не будут лежать перед ним, он не сможет взять на себя политическую ответственность и сказать, что протоколы не выдумка. Обращаюсь в лабораторию МУРа с просьбой произвести экспертизу – напечатаны ли текст договора о ненападении 1939 года и фотокопия к нему на одной или разных пишущих машинках. Вскоре получаю заключение специалистов: идентичность машинописных почерков вне сомнений. При ближайшей встрече докладываю Горбачёву в присутствии Яковлева о результатах изысканий криминалистов. Генсек, прищурившись, бросает фразу: ты, похоже, думаешь, что сообщил мне нечто новое? Позднее со слов Болдина, заведующего общим отделом ЦК, всплыло, что оригиналы протоколов и приложенных к ним карт предъявлялись Горбачёву за три дня до толчеи воды в ступе на политбюро. Озадаченность – предвестник недоверия. Мне сразу припомнилась латинская максима: если чувства не будут истинны, весь наш разум окажется ложным. Абсолютная власть портит её пользователей абсолютно. Сталин хоть инсценировал «коллективизм», проводил «опросы» членов политбюро, через президиум Верховного Совета «легализовал» чистки. Хрущёв, Горбачёв, Ельцин ещё меньше жаловали «коллег». Но очевидно, неверно Горбачёва 1989–1991 годов уравнивать в поведении с Горбачёвым 1985–1986 годов. Поначалу в разговорах один на один он не чурался признавать, что ему не всё известно и понятно. Конечно, в МГУ, будучи перегруженным комсомольскими обязанностями, ему было сложновато многое постичь. Говорю это не в упрёк, всезнайство вообще не принимаю за украшение ума. И когда Горбачёв просил помочь ему составить генезис обременений отношений СССР с США, ФРГ, Японией, другими странами, я делился своими познаниями без тени снобизма. Однажды генсек посетовал, что не может толком разобраться в подоплёке стычки Сахарова с Хрущёвым. Случай сделал меня слушателем знакового монолога Никиты Сергеевича. В ноябре 1961 года меня вызвали к нему для подготовки ответа на послание президента США Джона Кеннеди. Перед зачтением текста данного послания Хрущёв мимоходом «изгнал» Албанию из всех подконтрольных Москве организаций, а затем разоткровенничался о том, как схлестнулся с Сахаровым. Сахаров категорически возражал против испытания 100-мегатонной водородной бомбы над Новой Землёй. «Я одёрнул зарвавшегося академика, – зычно произнес Хрущёв. – Ты физик, так и занимайся физикой, политикой будем заниматься мы, политики!» Не хочу гадать, насколько полезным оказался этот мой пересказ для прекращения «дела Сахарова» и возвращения выдающегося учёного в московские пенаты. Сагдеев поблагодарил также от имени других академиков за «содействие в устранении вопиющей несправедливости». Пользуясь каждой возможностью, стремился убедить молодого руководителя в порочности курса «догнать и перегнать США… по вооружениям». В некоторых его выступлениях получила верную квалификацию вашингтонская стратегия довести до краха СССР через кузню Вулкана. Не оставлял без комментариев подковёрные русофобские происки натовских «симпатизантов» перестройки, наращивавших усилия по формированию пятых, шестых и прочих колонн в советском тылу. Большинство сигналов оказалось невостребованным. – Почему? – Горбачёв вознесся на верхотуру без чётко сформулированной программы, заземлённой на суровые реалии. Будем честны, они не похожи по сию пору на видения из кремлёвского иллюминатора. Генсек обозначил желанный причал – «социализм с человеческим лицом». Он, однако, упорно уклонялся ясно охарактеризовать берег, от которого отчаливал. «Ввяжемся в бой, потом оглядимся!» – его расхожий девиз. Он обрекал на разброд и шатания, на бессистемные, не увязанные в целое эксперименты. К концу 1986 года Горбачёв провёл в политбюро роковое решение – высший приоритет в перестройке отдаётся политике. В очередной раз слова помыкали делами. «Революция в революции» сводилась к «экспериментам в экспериментах». Наши усилия пробудить у лидера здравый смысл, взвесить китайский опыт наталкивались на огульное неприятие. «Китайцы скоро упрутся в тупик, – парировал Горбачёв наши аргументы. – Мы пойдём своим путём». Спору нет – «процесс пошёл!» Еще одна крылатая фраза Горбачёва. Скат в бездну. В оправдание Горбачёв не прочь сегодня ссылаться на то, что будто он не ведал, когда брал в руки бразды правления, сколь неблагополучно здоровье страны. Зря лукавит. Донесения, одно мрачнее другого, текли к нему потоком. Любой, даже далёкий от политики человек знает: нельзя соваться в воду, не зная броду. – А что, действительно страна была нездорова? – Ни к чему лакировать советскую действительность. 1972 год. Сильнейший неурожай. Потребительский рынок лихорадит, но всё новые военные программы в ответ на американские вызовы. К концу десятилетия ассигнования на социальные нужды, на удовлетворение насущных потребностей населения урезаются почти на треть. В 1981 году НАТО утверждает планы «Фофа» и «Армия 2000». Советскому Союзу навязывается состязание в области «умного оружия». Оно обходится в 5–7 раз дороже ядерного. Начальник Генштаба Вооружённых сил СССР Огарков и председатель Госплана Байбаков доложили политбюро – этот виток гонки вооружений может стать удавкой для нас. «Маловеров» сместили. Преемников поставили по стойке смирно. Однако плетью обуха не перешибёшь – перестройка стартовала под несчастливой звездой. Наши военные расходы поглощали почти четверть внутреннего валового продукта. Для сравнения: в США – 7,8%, в ФРГ – 5,7%, в Японии – 1,5%. Сравнись с нашей военная нагрузка на экономику США, последняя неминуемо бы рухнула. Худо ли, хорошо ли, нас какое-то время удерживали на плаву нефтедоллары. Но администрация Рейгана вскоре выбила эту подпорку. Под давлением ЦРУ США Саудовская Аравия, Кувейт, Эмираты обрушили цены на нефть. С 20–25 долларов за бочку они упали до 6–10 долларов, ниже себестоимости добычи нефтепродуктов у нас. Кроме того, дискриминационные требования КОКОМа (запрещение на продажу СССР технологий двойного назначения) распространили на оборудование для лёгкой и пищевой промышленности. Резко нарастили поддержку моджахедов в Афганистане. «Звёздные войны», милитаризация космоса были на дворе. Таким образом, Советский Союз вступал в заключительную главу своей истории под раскаты напряжённости вовне и неурядиц внутри страны. Закручивание гаек – не выход. Сталинизм как система явно исчерпал себя. Лозунговый социализм, назойливая тавтология порочили саму идею. Пробил час не искать виновных на стороне или в прошлом, но сводить к единому знаменателю слова и дела. Вера, отлучённая от повседневных и повсеместных дел, мертва есть. – Но в 1985-м многим казалось, что нашу систему можно было оптимизировать? – Мне уже приходилось говорить и писать, что народ с энтузиазмом воспринял смену поколений в высшем звене руководства страны. Абсолютное большинство коммунистов было готово включиться в устранение перекосов и расчистку завалов, усекавших народовластие, превращавших его в фикцию. Имея такую поддержку, архитекторы перестройки могли бы сдвинуть горы. Если бы, конечно, ведали, как и куда их сдвигать. В апреле 1986 года Горбачёв в моем присутствии наставлял главных редакторов СМИ: «Не заболтать перестройку». Он пренебрёг правилом: прежде чем командовать другими, научись повелевать собой. Кто больше сорил обещаниями, забывая, что неисполненные посулы – самострел? Его чем дальше, тем больше раздражали мои рефрены – страну может поднять в полный рост только правда. Каким бы горьким это лекарство ни было, если даже перестройка кончится неудачно, никто не должен иметь повода упрекнуть её авторов во лжи. Генсек не возражал, но сие молчание никак не было знаком согласия. Большинство нелепостей, дискредитировавших перестройку, – от тщеславия и его мутанта словоблудия, которое при подмене государственной политики государевым своеволием чревато закатом цивилизаций. Как ранжировать распоряжение Горбачёва, запрещавшее общему отделу без его ведома знакомить с документами спецхрана даже членов политбюро? Ведь не должность обусловливает возможность формулировать осмысленную позицию. Примем на веру утверждение Горбачёва, будто он и Шеварднадзе лишь из газет узнали о вводе наших войск в Афганистан. Став генсеком, он обещал, что при нём сектантству и групповщине не бывать. А как же готовились разворот на 180 градусов, сведший на нет принцип солидарности в организации Варшавского договора, или сговор с Бонном за спиной ГДР, а дома втайне от политбюро, увенчавшийся сделкой в Архызе? «Сбрасывали балласт». Отвернулись от Кубы, как и от большинства других дружественных стран в обоих полушариях. Во вступительной фазе перестройки Николай Рыжков имел право голоса. Однако с конца 1986 года, когда высшим приоритетом назвали политику, его, как при Брежневе Косыгина, быстренько оттеснили на вторые роли. «Двоевластие» плохо вписывалось в горбачёвское прочтение перестройки. И ломка прежних структур без их замены чем-то качественно новым пошла-поехала. Выбили почву из-под централизованного планирования, разделались с СЭВом, проигнорировав аргументы несогласных – в частности, международного отдела ЦК, который мне поручили в ноябре 1988 года возглавлять. То же, что делалось в оборонной сфере, не поддаётся описанию. Сошлюсь на слова маршала Ахромеева, с болью сказанные мне в июне 1991 года: «Раньше я думал, Горбачёв разрушает оборону СССР, не понимая, что творит. Теперь убедился – он делает это сознательно». – Теперь уже не секрет, что даже в политбюро были «агенты влияния», действовавшие в интересах США… – Вас интересует фигура «серого кардинала» Яковлева? В числе, наверное, первых я был посвящён в сведения о том, что Яковлев в кармане у американцев. Но памятуя о роли, отводившейся мне Рухадзе и Берия в «мегрельской афере», я не спешил вписывать Яковлева в суперагенты. Андропов распорядился под удобным предлогом отозвать посла Яковлева из Канады в Москву и здесь занять его приличной работой в одном из институтов Академии наук. Яковлев времени даром не терял, сумел втереться в доверие к Горбачёву. В 1987 или 1988 году разведка добыла документальные подтверждения – «идеолог перестройки» у Вашингтона на крючке. Генсек «посоветовал» Крючкову «лично объясниться» с фигурантом. Объяснения не получилось, ибо, как лично мне рассказывал председатель КГБ, Яковлев при встрече с ним не проронил ни единого слова. Разбирая нестандартную ситуацию, Горбачёв задал больше сам себе вопрос, полезен ли Яковлев для перестройки: «сли полезен – простим ему грех молодости. Никто не без греха». С Шеварднадзе происходило нечто схожее. Комиссия Зайкова, разведка докладывали Горбачёву, что министр иностранных дел при ведении переговоров с американскими партнёрами нарушает утверждённые политбюро директивы, или хуже того, что у вносимых, в том числе Горбачёвым, предложений есть запасные варианты. Обычно верховный руководитель выражал недоумение и собирался прочитать министру нотацию. Оставляю до другого раза комментирование реплики «никто не без греха». Саморазоблачения Горбачёва, Шеварднадзе, Яковлева, на которые не скупились вчерашние «запевалы» мирового социалистического движения, – веская причина заново взглянуть на многое из происшедшего в 80-е годы. Под погребальный звон великой советской державе фарисеи сбросили маски. Оказывается, вместе и порознь они с юности только тем и занимались, как бы опорочить идею социализма – «этот строй для ленивых», «под суд посмертно зачинщиков Октября» и заодно творцов Победы в Великой Отечественной. Их кумир Мальтус: торжествует сильный, удел слабых – подчиниться элите или исчезнуть. Некоторые из подголосков, куражащиеся над советским прошлым, заявляют, что предпочли бы видеть победителем во Второй мировой войне Гитлера. Не бойся дракона о семи головах, чурайся змеи о двух языках. Увы, большинство осознаёт эту мудрость слишком поздно. Маркс ошибался, когда относил доверчивость к тем человеческим слабостям, кои стоит прощать. Однако тем, кто вёл дело намеренно или невольно к развалу Советского Союза, к обнищанию народа, уготовано не прощение, но девятый круг ада, отведённый для предателей. Не случайно русофобы славят их, осыпают премиями и медалями. Закончу ссылкой на Александра Сергеевича Пушкина, наследие которого не устаю перечитывать. В болдинскую осень (это 1830 г.) он завершил роман в стихах «Евгений Онегин». Заключительная «Глава осьмая» перекликается с повествованием о невзгодах России в ХХ веке: «…Слишком часто разговоры Принять мы рады за дела, …Глупость ветрена и зла, Что важным людям важны вздоры И что посредственность одна Нам по плечу и не странна…» |
|
#610
|
||||
|
||||
|
http://echo.msk.ru/blog/nzlobin/1273556-echo/
06 марта 2014, 17:04 Я писал и говорил об этом довольно много. Подробно писал в своей книге "Второй новый миропорядок", которая вышла на русском языке в 2009 году. Приведу только одну цитату из самого себя четырехлетней давности. Извините за ее длинноту) Это касается, конечно, не только Крыма. Со мной, кстати, спорили все, кому ни лень по обе стороны океана... Распад СССР не закончился («Эхо Москвы», апрель 2010 г.): ... «Распад СССР еще не закончился. Мы находимся в процессе. Наивно полагать, что империя рухнула в один день. Империи распадаются долго и мучительно. Особенно если они состояли из соседствующих территорий и перемешанного по множеству критериев населения. Когда несколько лет назад я впервые высказал этот тезис, он был воспринят с большим скептицизмом. Сегодня его подтверждает сама жизнь. Не менее наивно полагать, что распад произошел в соответствии с границами союзных республик и на этом дело закончилось. Многие из границ носят неестественный характер и не совпадают с границами историческими, этническими, культурными, религиозными, экономическими. Границы внутри СССР носили прикладной политический характер. Сегодня они часто выглядят нелогично, противоречат реальности. Они не могут стать долгосрочной основой новой политической географии Евразии. Существующие ныне на постсоветском пространстве границы неизбежно будут меняться. Как результат, постсоветское пространство является нестабильным регионом, с высокой степенью непредсказуемости и высокой долей политической импровизации. Здесь есть вероятность появления новых государств и распад или изменение территории ряда нынешних... Как бы там ни было, я просто не вижу автоматизма в том, что распад СССР по границам бывших республик автоматически приведет к такому же количеству появления независимых государств. Мы знаем, как строились внутренние границы в СССР, как они чертились – возьмите ту же проблему Крыма, например, да и многие проблемы. И считать, что именно эти границы станут границами политическими, экономическими, этническими, религиозными, культурными – какими угодно – и установятся в качестве независимых государств, я бы не стал... Вообще, я историк, и как историк могу сказать, что в принципе, ничего вечного нет – государства не бывают вечными – они умирают, раздвигают границы, расширяются, сужаются, приобретают новые территории – в этом весь смысл изменения политической географии – она происходит всегда. Вообще, распад СССР само по себе большое изменение политической географии. Но считать, что СССР распадется на 15 кусков и на этом кончится, по-моему, это глупость и наивность. В принципе я думаю, что распад СССР еще не закончился, и мы находимся в процессе». |
 |
| Метки |
| ссср |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|