
 |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
http://www.bm-info.ru/pages/69.htm
Миросозерцание стоической школы определяется троякой тенденцией. В противоположность дуализму платоно-аристотелевской метафизики оно настаивает на единстве последней причины и вытекающего из неё миропорядка: оно монистично. В противоположность идеализму указанной метафизики, оно реалистично и даже материалистично. Тем не менее оно стремится, как того требуют уже его этические принципы, признать все в мире продуктом разума и усматривать последнюю основу мира в абсолютном разуме. Его точка зрения по существу телеологична, и его монизм в силу этого становится пантеизмом. Реальны, по учению стоиков, только тела. Ибо реально — говоря: они — только то, что действует или страдает, но это свойств( присуще только телесным сущностям. Поэтому они не только признавали телами все субстанции, не исключая человеческой души и Бога но даже качества вещей состоят, по их мнению, в чем-то телесном в воздушных течениях, которые распространяются в тела: и сообщают им объединяющее их напряжение; и так как это разумеется, применимо и к душевным телам, то и добродетели, аффекты, мудрость, хождение и т. п., в качестве состояний души, называются телами и живыми существами; впрочем, они вынуждены были совершать неизбежную непоследовательность, признавая, что пустое пространство, место, время и мыслимое не суть тела. Чтобы иметь возможность со своей точки зрения объяснить, что душа во всем своём объёме распространена в теле, а качества вещей — в вещах, стоики в своём учении о «полном смешении» отрицали непроницаемость тел и утверждали что одно тело может всеми своими частями проникнуть в другое, не слившись с ним в одно вещество. Тем не менее, несмотря на этот свой материализм, они различают вещество от действующих в неё сил. Они считают вещество само по себе бескачественным и выводят все качества вещей из проникающей их разумной силы даже саму заполненность пространства — из двух движений — сгущающего и разрежающего, направленного вовнутрь и направленного вовне. Но все действующие в мире силы могут проистекать лишь из единой первосилы; это доказывается единством мира, связью и согласованностью всех его частей. Подобно всему реальному, и эта сила должна быть телесной; точнее, они представляют её себе как тёплое дыхание или огонь; ибо именно теплота все производит, оживляет и движет. Но с другой стороны, совершенство и целесообразность мироустройства, и в особенности разумность человеческой природы свидетельствуют, что эта высшая мировая причина вместе с тем должна быть совершеннейшим разумом, благим и человеколюбивым существом — словом, божеством; и она есть божество именно потому, что состоит из самого совершенного вещества. Так как все в мире получает от неё свои качества, своё движение и жизнь, то она должна стоять к мирозданию в отношении, сходном с отношением нашей души к нашему телу: она проникает все вещи в качестве пневмы или творческого огня, который оживляет вещи и содержит в себе их зачаточные формы — она есть душа, дух, разум мира, провидение, рок, природа, всеобщий закон и т. п.; ибо все эти понятия обозначают лишь с разных сторон один и тот же предмет. Но подобно тому как в человеческой душе, хотя она и присутствует во всем теле, господствующая часть отделена от остальных и приурочена к особому месту, так же обстоит дело и с душой мирового целого: божество или Зевс имеет пребывание на крайней границе мира (согласно Архедему — в середине мира, согласно Клеанфу — на Солнце) и отсюда распространяется по всему миру. Но его отличие от мира все же только относительно: это различие между непосредственно и посредственно божественным: сами по себе оба суть одно и то же; часть единой сущности принимает форму мира, другая сохраняет свою первоначальную форму и противостоит первой как действующая причина или божество; и даже это различие в проявлениях имеет лишь преходящее значение: оно возникло во времени и в надлежащее время снова устранится. Для того, чтобы образовать мир, божество превратило часть огненного испарения, из которого оно состоит, сначала в воздух, затем в воду, в которой оно само пребывало, как творческая сила под действием этой силы часть воды выделилась в виде земли, другая часть осталась водой, третья стала воздухом, и из воспламенения воздуха при дальнейшем его разрежении возник стихийный огонь. Так возникло тело мира в отличие от его души. Но эта противоположность, возникнув во времени, с течением времени снова устраняется: по истечении нынешнего периода мира мировой пожар снова превратит все вещи в необъятную массу огненного испарения: Зевс приемлет в себя мир, чтобы в предназначенный срок снова отпустить его от себя, таким образом, история мира и божества движется в бесконечном круговороте между мирообразованием и мироразрушением. Но так как это движение всегда совершается по одним и тем же законам, то все бесчисленные следующие друг за другом миры настолько неразличимо сходны между собой, что в каждом из них встречаются до последних мелочей те же лица, вещи и события, что и во всех остальных. Ибо ненарушимая необходимость, крепко замкнутая связь причин и следствий определяет все совершающееся; этот абсолютный детерминизм вполне последователен в строго пантеистической системе стоиков и выражается также в стоических определениях рока или судьбы, природы и провидения. В этом отношении и человеческая воля не образует исключения: человек действует добровольно, поскольку его определяет его собственное влечение, и он может выполнять свободно, т. е. с собственного согласия, то, что судит рок; но выполнять это он вынужден во всяком случае: volentem fata ducunt, nolentem trahunt («судьба ведёт добровольно повинующегося и влечёт противящегося»). На этой связи всех вещей основано единство мира, а на разумности причины, которою она определяется, — красота и совершенство мира. Чем усерднее стоики пытаются обосновать всякого рода доказательствами свою веру в провидение, тем настойчивее им предстояла задача показать абсолютное совершенство мира и защитить его от возражений, которые черпались из наличности зла всякого рода. Главным основателем этой физико-теологии и теодицеи был, по-видимому, Хрисипп. Нам известно о нем, что он учил, что мир создан для людей и богов, и развивал эту теорию в чрезвычайно мелочную и внешнюю телеологию. И если основная мысль стоической теодицеи, что даже несовершенство единичного служит совершенству целого, послужила образцом для всех позднейших попыток этого рода, то все же задача примирить моральное зло с теологическим детерминизмом была для стоиков тем труднее, что они привыкли в ярких красках рисовать объем и могущество этого зла. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
http://www.bm-info.ru/pages/70.htm
В своём учении о природе стоики — как это было неизбежно пр тогдашнем состоянии естествознания — примыкали более к Аристотелю, чем к Гераклиту. Они следовали за Аристотелем — если оставить в стороне незначительные уклонения — в своём учении четырёх элементах; и если они считали излишним признавать, наряду с ними, эфир, то они все же различали эфирный и земной огонь: первый, по их учению, движется по кругам, последний — прямолинейно. Стоики неоднократно подчёркивают, что все элементарные вещества постоянно переходят друг в друга, что все вещи находятся в состоянии непрерывного изменения и что именно на этом основана связь вещей; но в их намерения не входит отрицать в силу этого, вместе с Гераклитом, всякую устойчивость в вещах; с другой стороны, они не ограничивают, как это делал Аристотель, эту изменчивость одним только подлунным миром. В своих представлениях о мироздании они держались господствующих воззрений. Звезды они представляли себе укреплёнными и их сферах; их огонь питается испарениями земли и воды; их божественность и разумность выводятся из чистоты этого огня. Все существа природы делятся на четыре класса, которые отличаются друг от друга тем, что неорганические вещи сдерживаются простым «состоянием», растения — природой, животные — душой, люди — разумной душой. Из существ природы наших философов интересует главным образом человек, и в человеке — его душа. Душа, подобно всему реальному, имеет телесную природу и возникает вместе с телом через физический процесс зачатия; но она состоит из чистейшего и благороднейшего вещества, из части божественного огня, который при первом возникновении людей внедрился в их тела из эфира и переходит теперь к детям от родителей, как часть их души. Этот душевный огонь питается кровью, и центр кровообращения, сердце, есть (согласно Зенону, Клеанфу, Хрисиппу и др., от которых уклонялись лишь немногие отдельные стоики) местопребывание господствующей части души. Отсюда распространяются в соответствующие органы семь разветвлений души, именно пять чувств, способность речи и способность к размножению. Но местопребывание личности находится лишь в господствующей части души или в разуме, к которому принадлежат как низшие, так и высшие душевные способности, и во власти которого — давать своё согласие как представлениям, так и волевым решениям. Это согласие, впрочем, в обоих отношениях может иметь лишь тот смысл, который допускается стоическим детерминизмом. После смерти души (по мнению Клеанфа всё, а по мнению Хрисиппа, лишь те, которые в течение жизни выработали себе надлежащую силу к тому) — души мудрецов сохраняются до конца мира, чтобы потом вместе со всем остальным вернуться в божество. Ограниченная длительность этого загробного существования не препятствует, однако, стоикам, в особенности Сенеке, прославлять блаженство этой высшей жизни после смерти и описывать её так же, как её описывают Платон и христианские богословы. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
http://www.bm-info.ru/pages/71.htm
Мнение, будто только преемники Зенона так формулировали этот принцип, тогда как он сам требовал только жизни, внутренне согласованной, маловероятно, так как Диоген определённо утверждает противоположное и так как уже учитель Зенона Полемон требовал естественной жизни; если Клеанф определял природу, в согласии с которой должна протекать наша жизнь, как («общую природу»), Хрисипп же — как общую и в частности человеческую природу, то последний только терминологически исправил первого. Самое общее влечение природы есть стремление к самосохранению; для каждого существа может иметь ценность и содействовать его блаженству только то, что служит его самосохранению. Поэтому для разумных существ имеет ценность лишь то, что согласно с разумом: лишь добродетель есть для них благо, лишь в ней состоит его блаженство, которое поэтому не нуждается ни в каких иных условиях (добродетель — «сама по себе достаточна для блаженства»). И точно так же, напротив, единственное зло есть порочность. Все же остальное совершенно безразлично жизнь, здоровье, честь, имущество и т. п. не суть блага; болезнь, позор, нищета и т. п. не суть зло. Менее всего можно считать удовольствие благом или даже высшим благом и стремиться к нему через него самого; оно есть следствие нашей деятельности, когда последняя имеет надлежащее направление (ибо правильное поведение, конечно, доставляет единственное истинное наслаждение), но оно не может быть целью деятельности; и если и не все стоики заходили так далеко, как Клеанф, который совсем не причислял удовольствие к естественным вещам, то все же все они отрицают, чтобы оно, взятое само по себе, имело ценность; и поэтому все они искали особое счастье добродетельного главным образом в свободе от помех, в душевном спокойствии, во внутренней независимости. Так как одна только добродетель есть благо для человека, то стремление к ней есть общий закон человеческой природы; и это понятие закона, обязанности, сильнее подчёркивается у стоиков, чем у всех прежних моралистов. Но так как наряду с разумными влечениями в нас есть также и неразумные, безмерные, т. е. аффекты (которые уже Зенон сводил на четыре главных аффекта: удовольствие, вожделение, огорчение и страх), то стоическая добродетель по существу носит характер борьбы с аффектами. Аффекты суть нечто противоразумное и болезненное «немощи», и если они стали привычными, «болезни души»), их нужно не только умерять (как того требуют академики и перипатетики), но и истреблять: наша задача есть состояние свободы от аффектов, апатия. В противоположность аффектам, добродетель есть устройство души, соответствующее разуму. Её первое условие состоит в правильных взглядах на то, что надлежит делать и от чего следует воздерживаться; ибо — говорит Зенон вместе с Сократом — мы всегда стремимся к тому, что считаем благом, но в нашей власти соглашаться с каким-либо мнением о том, что есть благо, или отказывать ему в согласии. Поэтому стоики считают добродетель знанием, порочность — невежеством, и сводят аффекты к ложным суждениям о ценности. Но они представляют себе это нравственное знание столь непосредственно связанным с силой духа или воли, которую подчёркивал в особенности Клеанф, что с таким же правом можно усматривать сущность добродетели и в этой силе воли. Общим корнем всех добродетелей Зенон считал разумение, Клеанф — душевную силу, Аристон — здоровье; со времени Хрисиппа принято было усматривать его в мудрости, как науке о божественных и человеческих вещах. Из неё вытекают четыре основные добродетели, которые в свою очередь делятся на многообразные подвиды: разумение, храбрость, самообладание и справедливость; Клеанф, однако, заменял разумение устойчивостью. Согласно Аристону (и, в сущности, также согласно Клеанфу) отдельные добродетели отличаются друг от друга только объектами, на которых они проявляются; Xрисипп и позднейшие стоики принимали внутренние, качественные различия между добродетелями. Тем не менее, и они твёрдо придерживались мнения, что добродетели, в качестве проявления одного и того же душевного склада, неразрывно связаны между собой, и что там, где есть одна добродетель, необходимо должны быть и все остальные, и где есть один порок, — должны быть все пороки. Ибо все дело во внутреннем настроении; лишь в силу последнего выполнение долга становится добродетельным поступком; форма обнаружения добродетельного настроения сама по себе безразлична. Стоики думают, что это настроение может только либо целиком быть наличным, либо совершенно отсутствовать. Добродетель и порочность суть свойства, не допускающие различия по степени (они суть внутренние устройства души, а не просто состояния); поэтому между ними нет ничего среднего, нельзя иметь их отчасти, а можно только либо обладать, либо не обладать ими, быть либо добродетельным, либо порочным, либо мудрецом, либо глупцом, и переход от глупости к мудрости совершается мгновенно: стремящиеся к мудрости принадлежат ещё к глупцам. Мудрец есть идеал всякого совершенства, и так как последнее есть единственное условие блаженства, то и идеал блаженства; глупец есть носитель всякой порочности, всякого злосчастия. Один только мудрец — как это развивают стоики с декламаторским пафосом — свободен, прекрасен, богат, счастлив и т. д.; он обладает всеми добродетелями и всем знанием, он один во всех вещах делает надлежащее, он есть единственный истинный царь, государственный деятель, поэт, прорицатель, кормчий и т. д., безусловно свободен от всяких потребностей и страданий и есть единственный друг богов. Он не может потерять своей добродетели (разве только — как допускал Хрисипп — при душевной болезни), его блаженство равно блаженству Зевса и не может быть увеличено никакой длительностью во времени. С другой стороны, глупец безусловно порочен и несчастен, есть раб, нищий, невежда; он не может совершать ничего доброго и неизбежно во всем ошибается: все глупцы — сумасшедшие. Глупцами же, как полагали стоики, являются все люди за немногими, бесконечно редкими исключениями; даже в отношении наиболее прославленных государственных деятелей и героев стоику (правда, непоследовательно) признают разве только то, что им в несколько меньшей мере, чем всем другим людям, присущи общи" недостатки; в особенности младшие приверженцы стоической школы как например Сенека, рисуют объем и глубину человеческой греховности нередко в столь же живых красках, как одновременно с ними и после них описывали греховность христианские богословы. Во всем этом стоики по существу следовали принципам кинизма, хотя и с уклонениями, вытекавшими из их научного обоснования и изложения. Однако уже Зенон не скрывал от себя, что эти принципы нуждаются в значительных смягчениях и ограничениях. Эти смягчения были не только условием, при котором эти принципы могли выйти за узкие пределы секты и стать исторической силой, но они вытекали и из общих предпосылок стоической этики. Ведь система, которая в практическом отношении признавала нормой естественную жизнь, а в теоретическом отношении — общие убеждения, не могла становиться в такое резкое противоречие к тому и другому, на какое без колебаний решались Антисфен и Диоген. Поэтому прежде всего в учении о благах начали различать среди нравственно безразличных вещей три класса: вещи, которые естественны и потому имеют цену, т. е. желательны и сами по себе предпочтительны; вещи, которые противоестественны и потому имеют отрицательную ценность и должны быть избегаемы; и наконец, вещи, не имеющие ни положительной, ни отрицательной ценности, безразличные в тесном смысле слова. Аристон, который оспаривал это различие и усматривал именно в равнодушном отношении к нему высшую задачу человека, навлёк на себя этим своим отступлением от Зенона к Антисфену упрёк в том, что он делает невозможным всякое действование по разумным основаниям; с другой стороны, Эрилл также уклонялся от Зенона, утверждая, что часть нравственно безразличных вещей, не имея связи с последней жизненной целью, все же может служить самостоятельной побочной целью. Лишь в силу этого видоизменения своего учения о благах стоики были в состоянии стать в известное положительное отношение к задачам практической жизни; нередко, однако, они делали из него употребление, которое не согласовалось со строгостью стоических принципов. Отношение к желательному и отвергаемому регулируется условными или «средними» обязанностями, которые различаются от совершенных обязанностей, во всех этих условных обязанностях дело идёт о предписаниях, которые при некоторых обстоятельствах могут терять силу. Далее, если допускается и даже требуется условная оценка некоторых безразличных вещей, то и апатия мудреца настолько смягчается, что утверждается, что зачатки аффектов встречаются и у мудреца, но только они не могут добиться его согласия, а некоторые разумные душевные движения встречаются даже только у мудреца. Наконец, так как стоики не решались признать кого-либо из своей среды подлинным мудрецом, и так как многие из них высказывали в этом отношении сомнения даже о Сократе и Диогене, то стало неизбежным, чтобы «совершенствующиеся» начали вскоре приобретать все большее значение по сравнению с глупцами и мудрецами и в стоических изображениях почти неразличимо слились с мудрецами. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
http://www.bm-info.ru/pages/72.htm
Исследования об отдельных нравственных отношениях и задачах вообще занимали много места в послеаристотелевской философии; не особенно охотно занимались ими стоики (за исключением Аристона); и по-видимому, они с особенной любовью обсуждав казуистические вопросы, повод к которым давало столкновение обязанностей, так как подобные размышления давали им возможное осуществлять их диалектическое искусство. Но как бы важны ни были эти специальные изыскания для практического влияния стоической этики и для распространения более чистых нравственных понятий, их научная ценность, была, по-видимому, не очень значительной, и трактование их нередко было слишком мелочным. Характерно для них, поскольку они нам известны, двоякое, выступающее в них стремление: с одной стороны, стремление сделать отдельного человека независимым в его нравственном самосознании от всего внешнего, и с другой стороны, стремление справиться с задачами, которые вытекают из отношения личности к тому целому, к которому она принадлежит. Первое стремление обнаруживает черты, изобличающие в стоицизме ветвь кинизма; во втором стремлении содержатся черты, которыми он превосходит и дополняет кинизм. Полнейшая независимость от всего, что не влияет на наше нравственное существо, возвышение над внешними условиями и телесными состояниями, самоудовлетворённость мудреца, непритязательность Диогена — все это есть также стоический идеал; и хотя стоики не требуют от всех кинического образа жизни, но все же они находят его достойным философа, где обстоятельства дают возможность ею избрать. Принцип, что нравственный характер действий зависит только от умонастроения, а не от внешнего действия, увлёк стоиков, как и их предшественников, к некоторым рискованным и односторонним утверждениям; впрочем, то зазорное, в чем их упрекают в этом отношении, высказывалось ими, по-видимому, отчасти только гипотетически, отчасти же как следствие воззрений, которые оспаривались ими. Наконец, чтобы обеспечить человеку при всех обстоятельствах его независимость, они допускали добровольный уход из жизни не только как исход при крайней нужде; напротив, они усматривали в этом именно высшее обнаружение нравственной свободы, шаг, с помощью которого человек доказывает, что он причисляет и жизнь к безразличным вещам, и на который человек управомочен, как только какие-либо обстоятельства вставляют его считать более естественным покинуть жизнь, чем оставаться в ней. Так кончили свою жизнь Зенон, Клеанф, Эратосфен, Антипатр и многие другие стоики. Но сколь бы независимым ни сознавал себя стоик в отношении сего, что не есть он сам, он все же чувствует свою тесную связь со своими ближними. В силу своей разумности человек сознает себя частью мирового целого и тем самым — свою обязанность действовать для этого целого; он сознает своё родство со всеми разумными существами природы, признает всех однородными и равноправными, стоящими под одним и тем же законом природы и разума, и он признает их естественным предназначением жить друг для друга. Поэтому влечение к общению непосредственно заложено в человеческом сознании, и человеческая природа требует двух основных условий общения — справедливости и человеколюбия. Мудрецы, как говорят стоики, по природе дружны между собой; они вообще придают дружбе столь большое значение, что им не вполне удаётся согласовать свои положения о самоудовлетворённости мудреца с этой потребностью в дружбе; и точно так же они признают ценность и всех остальных связей между людьми. Они рекомендуют брак и требуют, чтобы он был проникнут строго нравственным духом; и если они и не могут чувствовать глубокой симпатии к политической деятельности, но все же среди философских школ позднейшей античной эпохи стоики тщательнее всех занимались задачами государственной жизни и вырабатывали наиболее независимые политические характеры. Однако, для них важнее, чем связь личности с её народом, её связь с целым человечеством: взамен политики здесь выступает космополитизм, самыми ревностными и успешными возвестителями которого были стоики. Так как всякое общение между людьми основано на равенстве разума у отдельных личностей, то общение должно простираться так же далеко, как и это равенство. Все люди родственны между собой, все имеют одинаковое происхождение и одинаковое назначение, все стоят под единым законом, суть граждане единого государства, члены одного тела. Все люди, в качестве людей, имеют право на нашу благожелательность; даже рабы могут требовать от нас своего права и оказаться достойными нашего почитания, даже к нашим врагам мы должны относиться с милосердием и при нужде оказывать им поддержку, как на этом в особенности неоднократно и решительно настаивали стоики римской эпохи. Этот космополитизм есть одна из самых характерных черт, которые сделали стоицизм истинным представителем эллинистической и римской эпохи и обусловили его огромное значение как могущественного пособника в возникновении и распространении христианства. Распространяя взаимозависимость разумных существ ещё далее, мы получаем понятие мира, как общества, состоящего из богов и людей, и требование безусловного подчинения законам и распоряжениям этого общества. И именно в этом подчинении мировым законам и в этой покорности судьбе, которые неустанно проповедуют стоики, состоит, с их точки зрения, сущность религии. Благочестие есть знание богопочитания. Это знание по существу состоит в правильных представлениях о богах, в послушании их воле, в подражании их совершенству, в чистоте сердца и воли, словом, в мудрости и добродетели. Истинная религия тождественна с философией. Во всем же, что содержится в народной вере сверх этого, стоики находили много недостойного. Нелепость веры в антропоморфных богов, бессмысленность традиционных церемоний порицаются всеми старшими и младшими членами школы, из известных нам резче всего Сенекой. Тем не менее стоики, в общем итоге, не противники, а защитники народной религии: отчасти, по-видимому, потому, что в её общераспространённости они усматривали доказательство её истинности, отчасти же и прежде всего потому, что они не решались отнять у толпы необходимую для неё опору нравственности. Поэтому подлинное содержание мифологии они усматривали в философском богословии; в богах мифологии отчасти непосредственно, отчасти косвенно почитается единое божество стоицизма: непосредственно под видом Зевса, косвенно под видом всех других богов, ибо последние суть не что иное, как изображения божественных сил, которые проявляются в звёздах, стихиях, плодах земли, великих людях и благодетелях человечества. Средством же, чтобы вскрыть в мифах эту философскую истину служило для стоиков их аллегорическое толкование; этот приём лишь случайно встречается до них; они же и уже, по-видимому, Зенон, сделали его системой, а Клеанф и Хрисипп применяли его в таком объёме и с такой невероятной произвольностью и безвкусицей, что в этом отношении они остались непревзойдёнными своими многочисленными преемниками в области языческой, иудейской и христианской религии. Аналогично относились стоики — в том числе уже Зенон, Клеанф и Сфер, и в особенности Хрисипп и его преемники — к прорицаниям, которым они приписывали большое значение. И здесь они также искусственно рационализировали иррациональное; в силу связи всех вещей, будущие события, по их мнению, возвещают о себе в известных предзнаменованиях, познание и истолкование которых может быть достигнуто отчасти через естественное дарование, основанное на сродстве человека с богом, отчасти на искусном наблюдении; и как бы фантастичен и плохо удостоверен ни был рассказ о каких-либо осуществившихся предзнаменованиях, стоики с помощью этого приёма умели оправдать его. Быть может, стоики уже до Панэтия различали троякое богословие: богословие философов, государственных людей и поэтов; и последнее богословие, которое по существу было не чем иным, как народной религией, они осыпали суровыми упрёками; но все же это не удерживало их от того, чтобы резко отвергать все серьёзные нападки на существующую религию. Об этом свидетельствует, между прочим, поведение Клеанфа в отношении Аристарха Самосского, которого он, специально направленном против него сочинения обвинял в безбожии, так как Аристарх проповедовал движение Земли, этого «очага мира»; о том же свидетельствует и строгость Марка Аврелия против христиан. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
http://www.bm-info.ru/pages/80.htm
Хотя стоическая система и была более или менее завершена Хрисиппом, но все же стоики не замыкались в своём школьном учении настолько строго, чтобы отдельные члены не могли позволить себе уклонений от него; повод к таким уклонениям давали отчасти влияние прежних систем, отчасти желание справиться с возражениями противников и прежде всего с сильной критикой Карнеада. Уже преемник Хрисиппа, Зенон из Тарса, по-видимому, сомневался в учении о мировом пожаре; такие же сомнения питал и Диоген из Селевкии в последние годы своей жизни, быть может, потому, что он не мог справиться с возражениями Боэта и Панэтия. Гораздо более уклонялись от древнестоического учения эти два ученика Диогена. Боэт Сидонский (ум. в 119 г. до P. X.) не только уклонялся от старого учения в теории познания — наряду с восприятием он признавал критерием истины также разум, науку и вожделение, — но он мыслил также божество субстанциально отделённым от мира, хотя он и приравнивал его, вместе со своей школой, эфиру; поэтому он не признавал мира за одушевлённое существо и допускал только взаимодействие между богом и миром; и соответственно этой промежуточной позиции между Зеноном и Аристотелем он также подробно оспаривал учение первого о миросожжении и заменял его учением о вечности мира. — Большее влияние имел на стоическую школу Панэтий из Родоса (приблизительно между 180 и 110 г. до P. X.), преемник Антипатра в Афинах и вместе с тем главный основатель римского стоицизма, друг младшего Сципиона Африканского и Лелия, наставник Кв. Муция Сцеволы, Л.Элия Стилона и других римских стоиков. Этот мыслитель, который обнаружил независимость своего суждения и в литературной и научной критике, был открытым почитателем Платона и Аристотеля, учение которых оказало влияние на его собственное; это тем более естественно, что он рассматривал стоическое учение главным образом с практической стороны и не только в более строгой школьной форме; о последнем свидетельствует, между прочим, его сочинение «О надлежащем», которое послужило образцом Цицерону для его книги De officiis («Об обязанностях»). Вместе с Боэтом он оспаривал грядущую гибель мира, а, может быть, также и его возникновение, отрицал посмертное существование души и вместе с Аристотелем различал растительную часть души от животной и от той и другой — разум несколько строже, чем это делали прежние члены школы. Нет основания предполагать, что он и в этике уклонялся от древнестоических принципов, хотя он, по-видимому, сильнее подчеркивал те пункты, в которых стоицизм расходился с кинизмом и сближался с Платоном и Аристотелем; он заимствовал от Аристотеля различение между теоретической и практической добродетелью и в обсуждении последней отчасти примыкал к нему. С другой стороны, он повторял сомнения Карнеада против мантики; и если он и не первый различал троякое богословие, то он во всяком случае делал из этого различия более свободное употребление, чем это было до тех пор принято у стоиков. Самым знаменитым учеником Панэтия был учёный Посидоний из Апамеи, который стоял во главе прославленной школы в Родосе и умер там в возрасте 84 лет в 51 году до P. X.; одновременно с ним жил родосец Гекатон; его преемниками в Афинах были (одновременно) Мнесарх и Дардан, за которыми следовал, по-видимому, Аполлодор из Афин (его нужно отличать от одноимённого хронографа). Однако, более точные сведения мы имеем лишь о Посидонии, который был не только философом, но и учёным исследователем — он владел всем знанием тогдашнего времени — и который оказал длительное влияние своим блестящим, часто риторическим стилем. Он, с одной стороны, в некоторых вопросах строже придерживался традиций своей школы, чем Панэтий; он защищал сожжение мира, посмертное существование души, существование демонов и в полном объёме разделял стоическое суеверие относительно прорицаний. С другой стороны, он сходился с Панэтием в преклонении перед Платоном. Для психологического обоснования столь резко подчёркиваемой стоиками противоположности между разумом и аффектами, он относил последние, вместе с Платоном к мужеству и вожделению, которые хотя и не суть особые части души, но суть особые силы души, зависящие от состояний тела, тогда как разуму он, по-видимому, вместе с Платоном приписывал не только бессмертие, но и предсуществование; все это — отклонения от древнейшего стоицизма, которые не остались без влияния на дальнейшую эпоху. И в этике он, как и Панэтий, сближался с академиками и перипатетиками. Нам известны ещё многие другие стоики первого века до P. X. Таковы Дионисий, который жил около 50 года в Афинах, быть может, в качестве главы школы, Ясон, внук и преемник Посидония, оба Афинодора из Тарса, из которых один (сын Сандона) был учителем Августа, астроном Гемин, ученик Посидония, Катон Утический, географ Страбон (при Августе и Тиберии) и другие. Однако, ни от одного из этих писателей не сохранились философские сочинения или сколько-нибудь обширные отрывки, за исключением только Ария Дидима. Но именно он представляет дальнейший пример того успеха, который имела и в стоической школе эклектическая тенденция той эпохи. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Боэт Сидонский Βοηθός Место рождения: Сайда Направление: стоицизм Боэт Сидонский (греч. Βοηθός; II в. до н. э.) — философ-стоик из Сидона, ученик Диогена Вавилонского. В противоположность обычным взглядам стоиков отрицал представление о мире как живом организме, полагая, что не весь мир, а только эфир или сфера звезд божественна. Он оспаривал, что мир был вечным,[3] в частности, отвергал стоический космический пожар, поскольку бог или Мировая душа не участвуют в нём, и божественное провидение осуществляется в реальном мире. Среди его трудов были О природе и О фатуме . Он написал комментарии к произведениям Арата, состоящие по крайней мере из четырёх томов. Примечания 1.↑ Diogenes Laërtius, vii. 143 2.↑ Перейти к: 1 2 Diogenes Laërtius, vii. 148 3.↑ Philo, De aeternitate mundi 76-77 4.↑ Diogenes Laërtius, vii. 149 5.↑ Geminus, xvii 48 Последний раз редактировалось Chugunka; 07.12.2015 в 06:55. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BA%D0%B8%D0%B9
Материал из Википедии — свободной энциклопедии 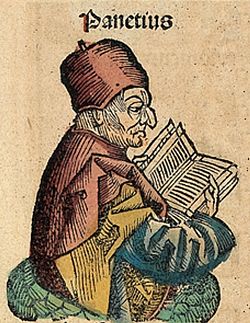 Панетий Παναίτιος Panaetius Nuremberg Chronicle.jpg Панетий. Средневековая миниатюра Дата рождения: 185 до н. э. Место рождения: Родос Дата смерти: 110 до н. э. или 109 до н. э. Научная сфера: философия Место работы: Афины, Рим Научный руководитель: Антипатр из Тарса Известные ученики: Посидоний Известен как: родоначальник «средней Стои»; ввёл понятие «гуманизм» Панетий Родосский (Παναίτιος, ок. 180 до н. э., Линдос — 110 до н. э., Афины) — древнегреческий философ; родоначальник средней Стои. Панетий происходил из старинного и влиятельного рода в городе Линдос на острове Родос. Учился в Пергаме у Кратета из Малла, а затем в Афинах, где слушал лекции Диогена Вавилонского и Антипатра. По приглашению Сципиона прибыл в Рим для участия в литературно-философском кружке. Панетий пытался привить в Риме греческую культуру и образование и стал основателем римского стоицизма; не без влияния Панетия возник и тот круг ценностей, который Цицерон позже выразил в понятии humanitas. После смерти Сципиона жил преимущественно в Афинах, где в 129 году до н. э. возглавил стоическую школу и был почтён афинским гражданством. Самыми известными учениками Панетия были Гекатон Родосский и Посидоний. От сочинений Панетия сохранились немногочисленные фрагменты, в основном — в трактатах Цицерона. По названиям известны трактаты «О надлежащем» (περὶ τοῦ καθήκοντος), «О промысле», «О школах», «О Сократе», «О благодушии», «Послание к Туберону». Панетий — первый крупный реформатор стоицизма, существенно изменивший некоторые положения школьной доктрины, источником обогащения которой он считал платонизм. Большой интерес он также проявлял к Аристотелю и перипатетикам. Философские интересы Панетия — по преимуществу психологические и этические. Основы этики изложены в трактате «О надлежащем», которым широко воспользовался Цицерон в одноимённом сочинении. Конечная цель — это жизнь согласно «природным побуждениям», к которым относятся познание мира, общение с другими людьми, возвышение собственной души и упорядочение жизни. Всё, что природа требует от человека — разумно, а поэтому прекрасно. В области космогонии Панетий подверг сомнению многие концепции, ранее выработанные стоиками, в том числе учение о периодическом мировом пожаре. Панетий был противником астрологии, в отличие от его ученика Посидония, разработавшего на основе стоической доктрины ее философскую основу. Примечания 1.↑ Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: учеб. пособие для вузов. — М.: Высш. шк., 1991, стр. 187. Фрагменты Francesca Alesse (Hrsg.): Panezio di Rodi. Testimonianze (= Elenchos. Bd. 27). Edizione, traduzione e commento. Bibliopolis, Napoli 1997, ISBN 88-7088-293-4. Литература Столяров А. А. Панетий Родосский. В кн.: Античная философия: энциклопедический словарь. Под ред. М. А. Солоповой. М.: Прогресс-Традиция, 2008. C. 539–542. Иванова Л. А. Панетий как основатель Средний Стои и его философская система // Философия и культура. 2009.№ 7. С.69-78 |
 |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|