
 |
|
#1
|
||||
|
||||
|
http://www.profile.ru/rossiya/item/8...hem-okruzhenii
30.06.2014 | Социолог Ольга Крыштановская о том, захочет ли президент идти на следующий срок и кто может занять его место Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина Поддержка Владимира Путина населением и политической элитой велика как никогда. Означает ли это, что в 2018 году Путин вновь станет нашим президентом? Руководитель Центра изучения элит Института социологии РАН Ольга Крыштановская уверена, что пока рано строить прогнозы. — Санкции со стороны Запада оказались напрасны? Они так и не породили внутри элиты антипутинскую фронду? Или все еще впереди? — Здесь надо выделить три разных процесса. Первое — отношение к происходящему тех, кто попал в санкционные списки, второе — отношение остальной элиты к ситуации, и, третье — отношение к санкциям населения страны в целом. Сначала про «путинский круг». Публичную реакцию «наказанных» мы видели: насмешливое презрение, ироничные замечания. Высокопоставленные чиновники, которых западное сообщество посчитало причастными к крымским событиям, говорили об этом с улыбкой на устах, всячески давали понять, что их это никак не затрагивает. Держали удар. Но это не значит, что санкции были безболезненными. — Что вы имеете в виду? — Наши чиновники любят отдыхать и лечиться за границей, у кого-то там учатся дети, кто-то имеет на Западе недвижимость, собственность, бизнес, деньги. Это люди состоятельные, с большими возможностями и немалыми запросами. Перед ними был открыт весь мир. И вдруг — дверь закрывается. Бизнес пришлось продать. Уже не поедешь на любимый курорт. Можно говорить, что ничего страшного, что и в России можно прекрасно отдохнуть, страна у нас большая. Но в целом ситуация неприятная. Это потери, потери меньшинства (хотя и решающего меньшинства). — И какова реакция большей части? — Большую часть элиты западные санкции никак не затронули. Но означает ли это, что другим власть имущим и богатым людям в России наплевать на реакцию Запада? Конечно, нет! Вся ситуация с Украиной вызвала напряжение в высшей страте общества. Ведь предсказать последствия кризиса было практически невозможно. Если Запад сумеет убедить свой бизнес и начнется серьезный отток капитала из России, перекроют границы, приостановят работу платежные системы, ни для кого это не будет легко. Тревожные ожидания достигли своего пика, когда начались перебои в работе Visa и Mastercard. А вдруг движение финансов остановится на территории страны? А вдруг долларовые счета будут заблокированы? Это коснулось бы не только элиты, но и среднего класса. Тогда, возможно, образовалась бы фронда внешней политике Путина. Никто не хочет снижать свой уровень жизни. Даже ради высоких целей патриотизма. Это было бы очень опасно: погнавшись вперед без оглядки, можно было бы потерять стабильность у себя дома. Элита начала бы роптать. — А население? — Народ бы, скорее всего, на первых порах поддержал бы самые смелые действия Путина. Простые люди к санкциям отнеслись равнодушно — их-то они не касались. Некоторые даже злорадствовали: «Вот, мол, вам, богачи, заграница! Теперь сидите в стране, чувствуйте, как живем и отдыхаем мы!» Большая часть простых людей вряд ли могла просчитать, каким образом тяжелые экономические санкции коснулись бы их кошельков. Они испугались бы, когда было бы уже поздно. А пока романтическая волна патриотизма, возрождение веры в Великую Россию на этом этапе была «дороже» денег. — И это при том, что российская элита еще два года назад колебалась по поводу поддержки Путина! — Если бы события на Украине произошли несколько раньше, возможно, они углубили бы наметившуюся трещину в политическом классе. Мы помним, с каким трудом в 2012 году Владимир Путин возвращался в Кремль. Многотысячные митинги в Москве, рост популярности оппозиционных лидеров — казалось, что революционная волна может захватить всю Россию. Видны были признаки фрагментации элиты. Консервативное большинство Владимира Путина и небольшая группа либералов во власти вокруг Дмитрия Медведева. Возможно, эти либералы были связаны с оппозицией, симпатизировали ей. Вот если бы украинские события начались тогда, раскол элиты в России вполне мог бы произойти. Но Путину удалось провести сложнейшую работу по консолидации политического класса и нейтрализации оппозиции. Часть наших «майданщиков» была дискредитирована, часть — «заперта». Были сформулированы новые социальные программы (т.н. «майские указы президента»). В итоге реального «Марша миллионов» так и не получилось. Тысячи были. А миллионов поднять не удалось. Миллионы остались с Путиным. В этих условиях фрагментация элиты была остановлена. Под воздействием кризиса на Украине, напротив, начался процесс консолидации элиты. Воссоединение с Крымом вызвало такое воодушевление, что возможные упреки Путину со стороны чиновников («Вот что мы потеряли благодаря вашим решениями!»), так и не вырвались наружу. Ворчание элиты было остановлено массовой патриотической волной. Люди страстно хотели вновь почувствовать себя частью великой страны. Ради этого люди готовы были потерпеть. Рейтинг Путина взлетел до небес благодаря тому, что его действия отвечали чаяниям большинства россиян. — Сколько может продлиться такое настроение в элите и обществе в целом? — Разумеется, есть опасность, что эйфория сменится депрессией. И это произойдет, если ничего не делать. Ну хорошо — забрали Крым, ура. А дальше что? Огромные расходы? Падение уровня жизни? Если так, то депрессия придет. Но наивно полагать, что власть этого не понимает. Она это понимает и думает, как не допустить спада общественных настроений. Тут необходим ряд шагов. Нужно объяснять людям, к чему приводят революции. На примере Украины видно, какие бедствия могут последовать за переворотом, какая начнется борьба всех против всех, какая кровь, какое ожесточение! Повторись этот сценарий в России, это перечеркнуло бы все достижения золотого века стабильности и роста доходов. Мы этого хотим? Конечно, нет. События в соседней стране показали: слабые и несамостоятельные лидеры завели Украину в тупик. На фоне таких лидеров и таких драматических событий Путин выглядит настоящим молодцом, отсюда и высокие рейтинги доверия. Давайте не будем забывать, что революционные ситуации опасны и для соседних стран. Настроения, как известно, имеют тенденцию расползаться за границы государств. И, значит, опасность эпидемии «майданов» будет еще долго фактором консолидации населения вокруг власти. — Начиная с Чаадаева, принято считать, что Россия всем дает уроки, как не надо делать, но теперь в этой роли выступила Украина? — Да, Украина преподала России урок того, чего делать не стоит. Потерять стабильность и ввергнуть свою страну в хаос, в бардак — проще простого. А вот выкарабкаться из хаоса — трудно. Сейчас большинство в стране понимает: никакие идеологические разногласия и политические цели того не стоят. Поэтому Путин как человек, на протяжении многих лет стоящий на страже стабильности, и впредь будет восприниматься как своеобразная панацея от подобного рода разрушительных сценариев. Именно поэтому люди хотят, чтобы он и дальше был лидером страны — об этом говорят данные социологических опросов. К тому же, для развития страны, для предотвращения спада в национальную депрессию, нужны новые великие интегрирующие проекты. Здесь очень перспективно выглядит Евразийский союз, разворот России на Восток, подписание многомиллиардных соглашений с Китаем. Если будут большие дела, депрессии не будет. Нам как воздух нужны амбициозные национальные программы, устремленные в будущее. Люди хотят гордиться своей страной! Но колебаний настроений не избежать. До президентских выборов 2018 года еще очень много времени. — Исходя из этого, каким может быть сценарий следующих президентских выборов, которые состоятся в 2018 году? — Все опросы показывают, что альтернативы Путину население не видит. Не видит альтернативы и элита. Впрочем, не будем обольщаться на этот счет: во всех авторитарных режимах ситуация именно такова — лидер безальтернативен. Однако, как бы то ни было, другого человека на «роль Путина», кроме самого Путина, сейчас не видно. Путин сейчас силен как никогда: уверен в своей правоте, убедителен, искренен, за него сейчас и народ, и элита (редкий случай для России!). Другой вопрос — захочет ли сам Путин идти на следующий президентский срок? Или он предпочтет играть роль эдакого Дэн Сяопина — «патриарха» политической системы, к мнению которого прислушивается власть, мудреца, выступающего арбитром по всем принципиальным вопросам, но не влезающего в детали политической и экономической текучки? Об этой роли говорили и в 2008 году. Но тогда этот сценарий не был принят, что не означает его невозможности. Пока конъюнктура такова, что Путин легко сможет переизбраться, если он поставит перед собой такую цель. Но он человек умный и просчитывает разные варианты. Возможно, он сочтет, что для сохранения стабильности системы выгоднее уйти в тень, найти «преемника №2», помочь ему победить на выборах своим авторитетом. Такой преемник (если сценарий реален) уже находится в ближайшем окружении президента. Путин не раз демонстрировал, что способен на самые неожиданные, неординарные шаги. А, значит, интрига по поводу его истинных планов будет сохраняться до самого конца. Последний раз редактировалось Chugunka; 19.04.2025 в 09:56. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
http://www.forbes.ru/mneniya-column/...tranzit-vlasti
 REUTERS/Dmitry Astakhov/RIA Novosti/Pool Президенту Путину придется учесть, что победитель кампании 2018 года получит целый ворох тяжелых экономических недугов Награда нашла героя. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени присужден Дмитрию Медведеву. Соответствующий президентский указ подписан 14 сентября – в день пятидесятилетия новоиспеченного орденоносца. Так что это гораздо больше похоже на ритуальный жест, нежели на знаковый финал медведевского премьерства, как можно было бы подумать. Тем не менее пассаж про «большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации» выглядит особо пикантно на фоне проведенного правительством тотального секвестра «социалки». Пожалуй, впервые за все годы путинского правления под нож попали не только пенсионные накопления (их изъятие стало уже доброй традицией), но и текущие выплаты. Обещанная индексация 4%, в общем-то, ничто по сравнению с двузначной годовой инфляцией. Вопреки настоятельным просьбам «социального» вице-премьера Ольги Голодец, накопительная компонента не направляется на повышение нынешних пенсий, а обеспечивает пополнение вновь созданного антикризисного фонда правительства. При этом президентский рейтинг практически не меняется. Как показал недавний опрос «Левада-центра», по сравнению с относительно благополучным сентябрем 2014-го лишь на один процент (с 38% до 37%) сократилась доля респондентов, которые считают, что Путин успешно решает проблемы страны, а 36% и тогда и сейчас выражали надежду, что президент выполнит эту задачу впредь. Зато, согласно той же социологической службе, почти 80% респондентов признают, что в стране экономический кризис. И не менее трети считает, что правительство плохо справляется с его проявлениями. Иными словами, Путин получает бонусы от эффектных геополитических ходов, а весь негатив, связанный с экономикой, концентрируется на Медведеве и его подчиненных. Уже сам по себе этот вклад достоин вознаграждения. Тем более что премьер всячески избегает резких движений, способных спровоцировать негативную реакцию населения и, следовательно, побеспокоить Кремль. А то и привести к радикальным кадровым решениям, касающимся кабмина. Наглядный пример – повышение пенсионного возраста. Путин еще в начале года фактически снял табу с этой темы и поручил правительству «проработать» ее с экспертами. С тех пор дефицит федерального бюджета почти достиг 800 млрд рублей. Для сравнения – год назад за этот же период был зафиксирован профицит более чем на 1,1 трлн рублей. При такой динамике закрытие «дыр» в Пенсионном фонде становится все более обременительным для казны. Но несмотря на призывы глав Минфина и Минэкономразвития, конкретных решений по изменению сроков выхода граждан на заслуженный отдых так и не принято. Понятно, что такая реформа имела бы отнюдь не только экономический и социальный эффект. Сравнительно невысокий пенсионный возраст можно подавать как серьезное конкурентное преимущество России по сравнению со многими бывшими союзными республиками, включая прибалтийские. Поэтому чем дольше россиянам придется работать, тем менее успешной будет экспансия «русского мира». Но если сегодня медведевское «недеяние» может быть истолковано как прикрытие путинских тылов, то завтра такая тактика премьера рискует сама по себе стать угрозой для реализации президентских планов. В правительстве признают, что непопулярные шаги по решению острых бюджетных проблем – повышение пенсионного возраста, увеличение налогов и т. п. – могут быть предприняты после 2018 года. Объявленное Путиным эмбарго на фискальные нововведения – лишь одно из объяснений. Тем более что к изменению сроков выхода на пенсию оно точно не относится. Зато именно к тому времени завершится очередной электоральный сезон. Страна обретет нового (или нового старого) президента, новое правительство и Госдуму. На старте своих каденций они будут избавлены от необходимости ежесекундно думать о голосах и рейтингах. И, следовательно, выражаясь биржевым языком, у них будет больше аппетита к риску. Здесь как раз и кроется подвох. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что «самым страшным кошмаром» для российской экономики являются не столько низкие цены на нефть, сколько низкие темпы реформ. Наблюдение вполне логичное. Эпоха высоких нефтяных котировок, похоже, ушла безвозвратно. И уже не обойтись без быстрых и кардинальных экономических преобразований, позволяющих минимизировать – а еще лучше свести к нулю – сырьевую зависимость. В противном случае кризис перерастет в затяжную рецессию и никакие внешнеполитические триумфы уже не смогут отвлечь сограждан от плачевного состояния их кошельков. Но в мотивации правительства преобладает политика как таковая, а не политическая производная экономики. Коль скоро тот самый электоральный сезон начинается уже в 2016-м, значит, бюджет на будущий год должен минимизировать влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры на поведение избирателей. 600-миллиардный антикризисный фонд, созданный с таким трудом и жертвами, -- это, по сути, страховой депозит, гарантирующий Кремлю сохранение контроля над парламентом. В конце 2002-го тогдашний совладелец ЮКОСа Платон Лебедев в интервью автору этих строк усомнился, что обслуживание внешнего долга обходится стране дороже выборов. С тех пор мало что изменилось. С поправкой лишь на драматичное изменение статуса самого Лебедева и на то, о чем вместо внешнего долга сейчас впору говорить, – о соцобязательствах. Если нефтяные котировки будут вести себя более-менее предсказуемо, правительство сможет направить часть антикризисного фонда на вторую – более значительную – индексацию пенсий. Скорее всего, именно поэтому в кабмине ссылаются на «результаты, которые покажет экономика». Ведь на возобновление экономического роста на фоне очередного «накопительного» моратория и отрицательных по отношению к инфляции текущих социальных выплат рассчитывать не приходится – не будет ни длинных денег, ни потребительского спроса. Поскольку, как утверждает «социальный» вице-премьер Ольга Голодец, именно пенсионеры наряду с многодетными семьями наиболее активно покупают отечественные товары. В августе 2016 года – как раз в преддверии выборов – у Медведева есть шанс устроить аукцион неслыханной щедрости и добавить родной для него «Единой России» голосов осчастливленных пожилых сограждан. Но бюджеты 2017-го и особенно 2018-го тоже должны предусматривать политические «страховые депозиты». На носу главные национальные выборы. При этом нефть приятных сюрпризов не обещает, а экономика толком не диверсифицируется. Более того, заботясь о собственном благополучии, государство лишает ее последних резервов. Получается, что принимая решение – идти ли самому на четвертый срок или вновь реализовать операцию «Преемник», Путин должен учитывать, что победителю президентской кампании 2018 года достанется целый ворох тяжелых и предельно запущенных экономических недугов. А потому любые попытки их лечения неизбежно вызовут крайне болезненную реакцию в обществе. При таком раскладе «транзит власти» не менее опасен, чем продолжение путинского президентства. С той лишь разницей, что первый сценарий может привести к утрате Кремлем контроля над ситуацией. А второй сделает российскую политическую систему еще менее эластичной и более зависимой от первого лица. Что как минимум приведет к окончательной остановке социальных лифтов, крайне необходимых для полноценной модернизации экономики. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
http://echo.msk.ru/blog/bykov_d/1644252-echo/
14:17 , 21 октября 2015 автор писатель, поэт, журналист лава президентской администрации Сергей Иванов дал интервью ТАСС. Цель этого интервью неочевидна: ничего принципиально нового там не сказано, но интонация его другая, принципиально непутинская. Видимо, в Кремле начали понимать, что пацанская этика и соответствующая лексика больше подходят для внутреннего употребления. Иванов – вариант экспортный, и на Западе его в самом деле любят. Для меня это было неожиданностью, но многие на Западе – и среди эмигрантов, и, что особенно важно, среди туземцев – называют его образованным ястребом, одним из тех, с кем консерваторы на словах враждуют, но на практике договариваются. Потому что они якобы одной крови. Иванов корректен, ироничен, подчеркивает ограниченность российских амбиций («сравните слона и моську», «мы не стремимся к внешнеполитическому лидерству»), однако регулярно напоминает о том, что наказывать нас бессмысленно, а не считаться с нами нельзя. Россия в его версии не угрожает миру, но как бы закукливается: о полном импортозамещении мы не говорим, но к нему стремимся; в Сирии доминировать не хотим, но без нас не разберутся; от международной интеграции не отказываемся, но интегрироваться стремимся прежде всего в Азию и Латинскую Америку. Словом, вполне выигрышный и грамотно просчитанный имидж. Проблема в ином: косметическими мерами можно было отделаться еще три, даже два года назад – когда замена Путина на любого представителя его клана, даже и на Медведева, многими воспринималась как благо. Сегодня, когда Россия втянулась в несколько серьезных кризисов сразу и продемонстрировала глубочайшее презрение ко всем правилам и установкам мировой политики, беспрерывно ссылаясь при этом на чужие ошибки и провалы как на универсальное оправдание, – никакому Сергею Иванову не выправить этого положения. У России, безусловно, и сегодня есть союзники, но таких союзников постыдился бы и СССР, не слишком разборчивый в дружбах; прежде нас побаивались, но чтили за культуру и космос – сегодня мы никаких особых достижений не демонстрируем, а тон берем такой, словно все нам должны еще за спасение Европы от монгольского нашествия. И боюсь, что попытка выдвинуть Сергея Иванова как главного российского спикера по международным делам никого не обольстит – точно так же, как и попытка выдвинуть, например, Рогозина никого не испугала бы. Иванов вполне годится на роль преемника – проблема только в том, что само понятие «преемник» будет через год-другой под большим вопросом, даже если все сельское население России в ударном порядке обеспечат дровами до 2024 года включительно. И во внешнем, и – с некоторой задержкой – во внутреннем мире всё отчетливей понимают: вы, друзья, как ни садитесь… Тут надо менять всю систему, и не только верховный кооператив, но и то соотношение народа и власти, при котором тот или иной кооператив в Кремле оказывается неизбежен. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
http://slon.ru/russia/idealnyy_preem...a-734309.xhtml
 Фото ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский Вот уже примерно месяц, как мы наблюдаем стремительную попытку экс-министра финансов Алексея Кудрина ворваться в публичную политику. Стало окончательно ясно, что амбиции многолетнего идеолога путинской финансово-экономической политики простираются гораздо дальше совершенно независимой позиции умудренного опытом отставника или даже поста уровня председателя Центробанка России. Человек, вкусивший сладкого плода от древа власти, теперь решил попробовать этот плод с другой, еще более привлекательной стороны. Сначала Алексей Кудрин предлагал себя в качестве переговорщика между Кремлем (точнее: Владимиром Путиным и Ко) и активом русских образованных горожан (РОГов), выходивших на Болотную площадь и проспект Сахарова. И вроде как даже согласовал это свое задание с Путиным. Впрочем, согласование, судя по всему, получилось фирменно путинское: да-да-да, делай все, что хочешь, только я тебе ничего не гарантирую. В результате переговоров пока не вышло: свои полномочия кремлевского представителя Кудрин подтвердить не сумел, а под промежуточный финиш заявил, что его старый друг и патрон «не доверяет лидерам протестов» (как будто мы этого раньше не понимали). Потерпев первое локальное фиаско, экс-вице-премьер перешел к более радикальным суждениям / поступкам. Он позволил себе заметить, что они с Путиным – хоть и друзья, но не единомышленники. Упомянуть, что инвективы старшего товарища в адрес участников и формальных организаторов митингов были не вполне корректными. И объявить о своей готовности к сотрудничеству с Григорием Явлинским, безвременно снятым с предвыборного забега (а не фиг было договариваться с Кремлем о роли статиста-легитиматора! впрочем, это уже другая история). Зададимся вопросом: есть у Алексея Кудрина как публичного политика серьезные перспективы? Как оратор он пока себя не проявил. Хоть и выступал на проспекте Сахарова, мужественно, в отличие от того же Михаила Прохорова, подставив себя предсказуемому РОГовому освистанию. Сказать, что из него так и прет харизма (дар благодати), – никак нельзя. Что касается идеологии Кудрина – перед тем, как по заданию Slon взяться за эту статейку, я перечитал несколько десятков публичных текстов бывшего министра финансов. Каких-либо серьезных прорывных идей по части реформирования страны я в этих текстах, хоть убейте, не обнаружил. Везде речь идет примерно об одном и том же: надо жить по средствам, сокращайте расходы бюджета, главное – избежать дефицита, ВПК дополнительных денег не переварит, тяжелые годы приходят, они будут так же трудны и т.п.. То есть типичный подход главного бухгалтера, но не генерального директора, призванного разрабатывать стратегию развития вверенного его попечению предприятия и проводить ее в жизнь. Стратегией у Кудрина, честно говоря, и не пахнет. Ни из одного кудринского выступления нельзя сделать вывод, что сложившаяся в РФ сырьевая экономика его чем-то принципиально не устраивает. Если кто-то думает, что новоявленный публичный политик как-то качественно отличается от своих правительствующих собратьев по морально-ценностным установкам, то есть не принадлежит к «партии жуликов и воров» в самом широком смысле – то это было бы слишком смелым допущением. Я мог бы привести целый список бизнесов, в которых Алексей Леонидович был / остается прямо или косвенно заинтересован – от банковского до драгоценно-каменного. Но редакция Slon попросила меня эту тему не трогать с формулировкой «не впадайте в фантастику». (Хотя, как может профессиональный фантаст не впадать в это самое дело, не очень ясно, ну да ладно, ради Slon чего не сделаешь. Именно так: нЕ сделаешь. Даже не впадешь в фантастику). Хорошо, не буду. В общем, казалось бы, предпосылок для возгорания Алексея Кудрина как сверхновой политической звезды почти нет. И тем не менее – есть. Точнее, есть только одна роль, которую бывший главбух Российской Федерации мог бы исполнить не только с честью, но даже и не без некоторого блеска. Эта роль – преемник Владимира Путина. Практически то, с чем не справился Дмитрий Медведев. Но уже совсем по-другому. Возможно, Кудрин стал бы идеальным временным постпутинским президентом, призванным провести фундаментальную политическую реформу, обеспечить честные выборы и потом навсегда уйти куда-нибудь в МВФ или Credit Suisse. Это – киргизский сценарий. Там, в Киргизии, дама по имени Роза Отунбаева стала временным президентом, превратила страну в парламентскую республику, довела (в хорошем смысле, кто бы что ни говорил) дело до парламентских выборов и правительства парламентского большинства и – на отдых. Да, да, вы будете смеяться, дорогой читатель, Россия теперь учится у Киргизии. Правда, в сфере демократии мы уже можем учиться у Приднестровья с Южной Осетией. Дожили. Ну ничего. Соберемся с духом, смирим гордыню, выучимся, потренируемся, и… Сценарий кудринизации российской политики мне видится примерно таким. В 2012 году АЛК, как он и собирался, может создать праволиберальную (хотя это немного оксюморон, но нашей России не привыкать) партию из обломков, осколков, объедков и обмылков всех прочих либеральных партий. Потом, пользуясь близостью к Путину, – организовать досрочные парламентские выборы. По их итогам, где-нибудь в 2013–14 гг., Алексей Леонидович, направляемый не только собственными амбициями (а они, как мы отмечали выше, судя по всему, выходят далеко за рамки его пиджачно-очечного образа), но и волей элит, которым несколько подосточертел Владимир Путин и решительно не нравится «рокировка» 24.09.2011, способен поставить вопрос о досрочном уходе босса. На абсолютно мирных и почетных основаниях. Причем сделать это, пожалуй, может именно Кудрин, если не только он. Почему-то думается, что кудринским гарантиям спокойствия и безопасности ВВП вполне в состоянии поверить. Все-таки они 100 пудов соли вместе съели. А может, и не только соли, не только съели. Если все получается, Кудрин где-то в 2014-м становится премьером, а через полгода – досрочные президентские выборы. На которые наш новый мегаполитик идет как преемник своего предшественника. При этом АЛК берет на себя четкие обязательства: только 2 года президентства, и только ради кардинальной политической реформы. А зачем ему, собственно, больше 2 лет? Главное – войти в историю. А на узурпатора Кудрин почему-то совершенно не похож. Фактура, она же конституция (я не имею в виду Основной закон РФ) не та. В конце концов, Нобелевская премия мира еще ни одному бывшему министру не помешала. Состав и содержание политической реформы (основные меры): – фактический переход от президентской республики к парламентской; в частности, передача парламенту функции формирования федерального правительства; – введение системы избрания губернаторов законодательными собраниями регионов; – передача функции назначения органов судебной власти президенту, освобожденному от бремени власти исполнительной. Здесь бы я еще добавил словосочетание «конституционная монархия», столь милое моему стареющему уху, но не буду, чтобы не засорять пространство для обсуждения. Если все это получится, и к концу второго года временной кудринщины состоятся свободные выборы – АЛК раз и навсегда выполнит свою миссию в российской политике. Не надо поручать ему экономических реформ – как уже говорилось выше, у него пока не просматривается никакой реальной стратегии, а взгляды на экономику почти не отличаются от путинских. У Кудрина как политика – два главных актива: – личное доверие Путина; – компромиссный дух, который должен устроить всех остальных. Потому двигать Кудрина во временные преемники Путина – пожалуй, самое правильное решение. Для всех троих: Путина, Кудрина и, собственно, вы будете смеяться, России. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
http://www.forbes.ru/mneniya/vertika...emnikom-putina
24.11.2015 03:46 журналист  Фото Юрия Белинского / ТАСС Слишком сильный преемник может раньше срока отнять власть у диктатора, а слишком слабый — ввергнуть страну в хаос. Надежды многих российских либералов на реформы при Дмитрии Медведеве были не только наивными, но и научно не обоснованными. Авторитарные лидеры назначают наследников, когда сами уже не могут править. Но чересчур рьяно стремящиеся к власти и нетерпеливые преемники — главная угроза для автократов. Поэтому они стараются обязательно сохранить для себя возможность отодвинуть преемника от власти. Чем больше самостоятельности проявляет преемник — тем ближе он к утрате власти. Ян Ли, Шу Ю и Юнь Чжан из университетов в Дуйсбург-Эссене, Рочестере и Оттаве проанализировали поведение 169 многолетних властителей за период 1875–2011 годов. Главная проблема таких лидеров под конец их правления — не оппозиция и не народные бунты, а собственные соратники. Особенно те, кто был возвышен в порядке подготовки наследника. Любой автократ обязательно сталкивается с вопросом «Кто следующий?». Официально назначая себе преемника, диктатор дает последнему и сильный мотив для своего собственного устранения, и основания полагать, что его торопливость может остаться безнаказанной, писал в «Автократии» (1987) Гордон Таллок, один из авторов теории общественного выбора. Если преемник пытается выстроить свою собственную, альтернативную, «группу поддержки», это будет восприниматься патроном как измена. Казалось бы, лучший наследник — наследник относительно слабый, основным активом которого является благорасположение автократа. Но и такой не подходит: в этом случае наследие окажется под угрозой, когда его придется реально передать преемнику. В этом состоит «дилемма автократа»: слишком сильный преемник опасен досрочным перехватом власти, а слишком слабый может ввергнуть страну в хаос, отмечает Бруно де Мескита, автор «Руководства для диктаторов». Поэтому одна из возможных стратегий для диктатора — не только не назначать, но и последовательно устранять всех возможных продолжателей своего дела. Османский султан Мехмед III (рубеж XVI–XVII веков), опасаясь заговоров, казнил двух своих сыновей и 19 братьев. Не оставил преемников Сталин. Вторая стратегия — в том, чтобы, наоборот, назначить преемника заранее, пока автократ может сохранять контроль. Так, например, решил поступить Мао Цзэдун. Но и товарищ Мао, и малайзийский лидер Махатхир Мохамад столкнулись с попытками преждевременного перехвата власти преемниками. Зимбабвийский диктатор Роберт Мугабе назначил было преемником экс-партизанку и вице-президента Джойс Муджуру. Но в 2011 году ее муж погиб при невыясненных обстоятельствах, а в конце 2014 года Муджуру была отставлена под предлогом коррупции и участия в заговоре против Мугабе. Лучшие преемники — тайные, скромные, сколь возможно долго остающиеся в тени. Рациональный диктатор не будет назначать себе нелояльного преемника! Испанский диктатор Франко сделал Хуана Карлоса наследником в 1969 году. Тот обещал Франко сохранить почти фашистский режим и терпеливо ждал его смерти до 1975 года, а затем быстро начал демократические реформы. Не столь талантлив постепенно теряющий популярность Николас Мадуро — экс-шофер Уго Чавеса, объявленный его преемником почти перед смертью лидера. Мадуро пытается сохранить чавесовский стиль, но не имеет харизмы своего предшественника. Разумеется, диктатор и его «группа поддержки» предпочитают, чтобы преемник продолжал его дело. Подход «после нас хоть потоп» — большая редкость: как правило, диктаторы хотят остаться героями в учебниках истории. Вдобавок правителю нужно гарантировать своей клиентеле благополучное существование и после своего ухода, иначе он раньше времени становится «хромой уткой». Во второй половине второго президентского срока Путина аналитики посвятили много времени гаданиям, кого он выберет преемником — Иванова, Медведева, Собянина? Когда выбор остановился на Медведеве, и особенно в первые год-два его правления, множество наблюдателей, политологов, инвесторов питали иллюзии о возможности движения России к демократии и конкурентному капитализму. «Дилемма преемника» показывает, почему эти идеи были изначально безосновательными. Путин выбирал себе преемника совсем не в том смысле, в каком это делали престарелые генерал Франко, Мугабе или больной Чавес. В отличие от них Путин в 2006–2007 годах совершенно не собирался никуда уходить. Либеральная общественность осознала это только в конце 2011-го. В такой ситуации Путину был нужен не настоящий, а мнимый преемник, которого, если что, легко отодвинуть от власти (в крайнем случае за счет социальной мобилизации сторонников). Даже настоящим преемникам нужно проявлять завидное терпение и выдержку, а уж мнимым — призванным, когда автократ не собирается прощаться, — и подавно. До настоящего кастинга преемников еще далеко. Он происходит 1) лишь тогда, когда авторитарный лидер всерьез задумывается о том, что будет после него, и 2) в случае, если он может оставить себе лазейку — возможность переменить свое решение, например, отправив преемника в отставку, обвинив его в заговоре или «скинув» за счет «восстания масс». Почему же серьезные аналитики и инвесторы с такой готовностью играли вместе с российскими лидерами в не очень увлекательную игру «Преемник» в 2007-2011 годах? В силу простой причины: большинство из них воспринимали Россию 2000-х как демократическую в целом страну, пусть и с особенностями развития. И мы не исключение: сквозь розовые очки политологи смотрели на Белоруссию, Мьянму начала 2000-х и другие страны. Авторитарная природа российской власти стала консенсусом политической аналитики в начале 2010-х годов. Но это лишь аберрация зрения. Люкан Уэй из Университета Торонто еще в 2007 году показывал, что демократическая парадигма не очень применима к описанию нашего политического процесса. В 1991–2005 годах Россия занималась вовсе не построением демократического общества — удачным, как считалось в первой половине 1990-х, или неудачным, как думали в следующие 10–15 лет. Наоборот, она занималась консолидацией, сосредоточением автократической власти, после того как распался от дряхлости советский властный механизм. Политическая элита не строила открытую (конкурентную) экономику и общество, а по мере сил закрывала, упорядочивала, вводила в рамки «хаос 1990-х», дефицит власти. Сначала для этого приходилось «брать власть и ресурсы взаймы» — у олигархов, региональных правительств, политических партий. Постепенными усилиями пирамиду удалось перевернуть. Для этого элита постепенно ограничивала оппозицию, строила институты, позволяющие лидерам удерживать политический контроль над обществом. В отличие от демократической перспективы, которую России по наивности приписывали благожелательные политологи, авторитарная оптика позволяет объяснить большинство событий 1990–2000-х годов, в противном случае остающихся непонятными отклонениями от магистрального пути. Включая применение силы против парламента в 1993 году, сохранение в новой России структур КГБ, многочисленные попытки построения «партии власти» с середины 1990-х, попытки контролировать медиа на выборах 1996 года и т. д. Именно аберрация зрения виной тому, что до 2011 года политологи анализировали российские выборы как «нормальные»: динамика партийных предпочтений, характер политических кампаний и электоральной мобилизации. Лишь потом стало очевидно, что манипуляции и подтасовки — не случайные отклонения, а основное содержание электорального процесса. Парадигма демократизации, сквозь которую аналитики смотрели на Россию, определяла, что они видели и чего не видели. Оказалось, не видели главного. Расхождение можно сравнить, например, с ситуацией, когда вам кажется, что вы флиртуете с приятным собеседником, но на самом деле он лишь пытается подписать с вами выгодный его фирме контракт. Если он в итоге достигает своей цели, а вы нет, впору серьезно задуматься об иллюзиях, которые определяли ваше восприятие и заслоняли от вас реальность. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
http://politobzor.net/show-78511-med...u-na-ruku.html
Автор: Михаил Нейжмаков | Дата: 20 Январь 2016 Дебаты вписываются в дискуссию о «России после Путина»  Если бы Путин не смог пойти на президентские выборы и не назвал преемника, только 3% россиян предпочли бы поддержать Сергея Шойгу и 30% — Дмитрия Медведева. Такой результат исследования компании «Башкирова и партнеры» уже вызвал жаркие споры в блогосфере. Вроде бы, все ясно. Данные социологов должны обрадовать премьер-министра и огорчить министра обороны. Но если все наоборот? Что если цифры от «Башкировой и партнеров» говорят о как раз большем потенциале Шойгу, да и уже сейчас сыграют на руку именно ему? Мы не знаем, насколько репрезентативным было данное исследование. В открытом доступе данных об этом нет. Поэтому сложно обсуждать сами цифры, которые в этих материалах указаны. Но вот о популярной трактовке этих цифр можно поспорить уже сейчас. Например, по данным этой группы социологов, 67,5% опрошенных считают, что «демократия имеет свои недостатки, но в длительной перспективе лучше любой другой политической системы». СМИ, опубликовавшие эти выкладки, сразу делают вывод: вот он, хороший сигнал для Дмитрия Анатольевича. Получается «в длительной перспективе» будет востребован образ «либерала Медведева», который многие россияне (если верить опросам других служб) не готовы оценить сегодня. Стоит однако задаться вопросом — а что сами респонденты понимали под демократией? Например, сотрудники «Левада-центра» уже проводили исследование на эту тему. В марте 2015 года самая большая группа, 36% опрошенных, считали, что это «общественное устройство, при котором все, независимо от своего положения в обществе, обязаны соблюдать законы». 34% полагали, что это «общественное устройство, при котором власть заботится о нуждах людей». И лишь 19% главным признаком демократии считали ситуацию, когда «властные органы избираются на свободных альтернативных выборах». Причем доля опрошенных, выделяющих именно последний признак демократии, с января 2012 года сократилась примерно на треть (тогда она составляла 28%). Получается, что для большинства опрошенных демократия — это сочетание «диктатуры закона» с патернализмом. Популярность именно такого понимания демократии говорит о перспективах, прежде всего, тех политиков, которые олицетворяют «сильную руку». Это может стать хорошим политическим подспорьем и Путину, и Шойгу. Впрочем, и для Дмитрия Анатольевича не все так пессимистично. Если он убедит сограждан, что «либерал Медведев» — ему не только не родственник, но даже не однофамилец. Немного перефразируя Стругацких, в мире информационных войн, ни один прогноз не остается долго без хозяина. После появления слухов, что Сергей Шойгу «подставит плечо» Медведеву и войдет в федеральную часть списка «Единой России», предположения о невысоком электоральном потенциале министра обороны будут на руку тем, кто не хочет реализации такого сценария. Но снова зададимся вопросом — а нужно ли участие в кампании «единороссов» самому Шойгу? Буквально с каждой неделей «партии власти» прочат все более сложную кампанию. Если «Единая Россия» получит не слишком впечатляющий результат, с этой неудачей будут ассоциироваться все федеральные лидеры списка, а не только первый номер — Медведев. И чем выше их влияние, тем существеннее будет удар по их авторитету. А ведь и Кремлю их популярность еще может пригодиться. С другой стороны, если именно они «вытянут» кампанию «единороссов», часть лавров все равно достанется Медведеву, как лидеру списка. Так нужно ли Шойгу доказывать кому-то сейчас свой электоральный потенциал, если само участие в предвыборной кампании «партии власти» мало что принесет ему самому? По крайней мере, на существующих условиях. Как бы то ни было, дебаты на тему «Медведев против Шойгу» хорошо вписываются в дискуссию, начатую внесистемной оппозицией — о «России после Путина». Политические цели самой дискуссии понятны. Мобилизация принципиальных противников существующей власти, которым напоминают, что решающая «битва за будущее» — не в 2024 или 2018 году, а уже на носу. Впрочем, мобилизационные возможности данной темы тоже ограничены. На кухне политических баталий 2016 года это только «комплимент от шеф-повара». Что будет «основным блюдом», мы скоро увидим. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
http://www.newtimes.ru/articles/detail/107551
№4 (395) 08.02.16 Евгения Альбац , Иван Давыдов Возможно ли, что правящий класс пойдет на замену Путина? Каким образом это может произойти? Какие есть альтернативы нынешнему президенту РФ и каковы риски, связанные с отставкой человека, который 16 лет стоял у руля страны? Эти вопросы непосредственно в редакции The New Times и с помощью сервиса Skype из Санкт-Петербурга и Лондона обсуждали: профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман, политолог Кирилл Рогов, лидер «Открытой России» Михаил Ходорковский  Владимир Гельман, Кирилл Рогов и Михаил Ходорковский в редакции The New Times. Москва, 2 февраля 2016 года The New Times: Существует точка зрения, что Владимир Путин в результате тех действий, которые он предпринял (Крым, Донбасс, Сирия, Турция), и последовавших ответных мер (санкции как против отдельных персоналий, так и против секторов российской экономики, и антисанкции правительства РФ) постепенно становится «проблемным активом» для российской элиты. Как вы относитесь к подобной гипотезе? Михаил Ходорковский: Ну смотря что считать элитой. Я считаю, что существует значительная часть людей, которые связывают свою судьбу, свои доходы и некоторые из них — свои жизни с Путиным. И соответственно, эти люди не могут рассматривать его как проблемный актив, для них он — всё. Возьмите, например, нашего общего друга Кадырова, хотя можно ли его относить к элите — вопрос спорный, но без Путина его нет. Или Сечин, или Ротенберги и т.д. Можно сказать, что достаточно значительная часть общества намертво привязана к Путину, и для них он — единственный шанс на выживание. Но есть и те, кто при осознании тех проблем, которые им приносит Путин, и при определенных гарантиях, что масштабных проблем не добавится, за него не будут держаться. Все зависит от того, насколько быстро произойдет переход и насколько мягким или, наоборот, жестким он будет. Потому что если человек прижат к стенке, то он сражается намного жестче, не обращая внимания на правила игры. А если у него есть достаточно широкий канал выхода, то, может быть, он в него и пойдет и не будет заниматься глупостями. Владимир Гельман: Действительно, значительная часть российского правящего класса не видит для себя какой-либо реалистической альтернативы, которая позволила бы им сохранить свое положение без довольно серьезных рисков потерять все. Понятно, что это результат стратегии, которую российские власти реализовывали на протяжении значительного времени, когда всякие институционализированные каналы, институционализированные механизмы управления обрубались, заменялись личными, персональными связями, осложняя появление какой-либо альтернативы (Путину). Рогов: «Тех, кто, как Сечин, до Путина был никем, — наверное, человек 100. Эта группа чем-то похожа на закрытый орден, она плохо входит в коалицию с другими и полагается на силовой ресурс, которым является для них Путин» В нашей политической истории есть схожий пример. А именно — последние годы жизни Сталина. Его окружение, сильно натерпевшееся от непредсказуемости вождя, от репрессий, тем не менее ничего не предпринимало — ждало времени «Ч». Конечно, они к нему готовились, некоторые готовились более успешно, некоторые, как оказалось, менее успешно, но тем не менее вплоть до смены режима в силу естественных причин (смерти И.В. Сталина 5 марта 1953 года) никаких шагов они не делали. Отчасти потому, что боялись при живом вожде чего-то делать, а отчасти потому, что не без оснований ожидали, что смена режима может вызвать потрясения. И мы знаем, что никто из тех, кто находился в верхних эшелонах советского руководства в 1952 году, в течение следующих 15 лет у власти не удержались. Кирилл Рогов: Тех, кто, как Сечин, до Путина был никем, — наверное, человек 100. Эта группа чем-то похожа на закрытый орден, она плохо входит в коалицию с другими и полагается на силовой ресурс, которым является для них Путин. Да, для них уход Путина — это потеря всего. Так это выглядит сейчас. Но возможно, по мере того как Путин будет ослабевать — если он будет ослабевать, — они будут вынуждены вступить в коалиции с другими игроками. Но если Путин вдруг исчезает, то более традиционные элиты, выращенные предыдущими десятилетиями и имеющие другие корни, этих людей сметут. Вторая часть истории заключается в том, что… Я на другом круглом столе The New Times уже говорил, что рассматриваю (присоединение) Крым (а) как своего рода переворот. Это был переворот, осуществленный очень узкой группой людей, и это резко изменило баланс сил в элитах. Те элиты, которые были связаны с Западом и были очень влиятельны, начали стремительно терять свое влияние, и это открыло шанс для новых элит вырваться вверх, захватить позиции, сделать рывок. Мы сейчас видим на всех этажах, как люди одного типа выходят на первый план, занимают руководящие посты, отодвигая других. Конкуренция, борьба элит — это сильный ресурс сохранения устойчивости власти Путина. Выбор-2018 NT: В последние недели Великобритания и США обрушились с целым рядом обвинений в адрес Путина: и в возможном заказе убийства подполковника ФСБ Литвиненко в 2006 году, и в коррупции — устами чиновника Министерства финансов США, курирующего вопрос санкций и финансовую разведку. Кажется, что коллективный Запад говорит российским элитам: «Если вы хотите отмены санкций, дешевых кредитов и возможности для ваших детей учиться и жить в цивилизованных странах, то Путин не должен вновь стать президентом в 2018 году». Что скажете? Ходорковский: Мне кажется, как минимум в Вашингтоне есть понимание, что заявления типа «этого мы хотим видеть во главе страны, а этого — нет», скорее способствует удержанию власти тем и теми, кого Запад мечтал бы увидеть на пенсии. Я думаю, в данном случае американское правительство дает сигнал своему обществу, а никак не нашему. Оно говорит: «На какие бы временные компромиссы с Путиным мы ни шли, тем не менее ставим метку: это человек, с которым в долгосрочные соглашения мы вступать не будем, он для нас человек не договороспособный». Рогов: Запад просто говорит: Путин — больше не партнер по переговорам. И этот месседж обращен внутрь Европы и Америки — прежде всего, и связан с популярностью путинизма в Европе и в мире вообще. Отсюда — смена стратегии Запада: от «нас не касаются качества вашего правителя, мы будем иметь с ним дело, только чтобы он нам не мешал», — до перехода к фазе антипутинской пропаганды. Гельман: «Для авторитарных режимов, чье богатство зависит от ресурсов, кризис цен на эти ресурсы оказывается трагедией — об этом говорят исследования» NT: Какие группы интересов в России могут поддерживать идею ухода Путина, а какие будут бороться до конца за сохранение статус-кво! Гельман: Конечно, для тех, кто лично обязан Путину, обвальный уход Путина в ближайшей перспективе является крайне рискованным. Идеальным вариантом для них было бы, если бы Путин продолжал находиться у власти еще достаточно длительное время, давая им насладиться нынешней ситуацией, а потом, через 15–20 лет, начал бы готовить себе в преемники, скажем, Кирилла Шамалова и передал бы ему власть. На самом деле большинство авторитарных лидеров типа Путина так себя и ведут. Проблема в том, что вот такая династическая передача власти, она очень редко бывает успешной, как правило, ничего из этого хорошего не получается. Тем не менее общая стратегия — как можно дальше оттянуть момент смены лидера. Конечно, он неизбежен, но может случиться через год, а может, через 20 лет. Собственно, в постсоветских странах те же проблемы сейчас встают перед Назарбаевым, перед Каримовым — там, где не за горами физическое исчерпание возможности править. NT: И все же: в последние годы СССР наметился раскол между теми, кто, как энергетики, нуждался в открытии страны, и теми, кто, как представители военно-промышленного комплекса, был скорее заинтересован в железном занавесе. Вы таких противоречий сейчас не видите? Ходорковский: Несомненно, это один из факторов. Но другие факторы будут играть не меньшую, а может быть, и большую роль. И существенным аспектом будет позиция людей, которые сегодня оппонируют режиму, то есть наша с вами позиция. Если мы говорим: «Ребята, мы сметем весь старый мир и новый построим с нуля», то, вероятно, от 30 % до 50 % населения будут этим недовольны при любом развитии событий, в том числе и при ухудшении экономической ситуации. А если мы скажем: «Были люди, которые осмысленно двигали страну в направлении, выгодном исключительно им, но большинство было других, нормальных». Если они лично не совершали преступных деяний, то и не должны нести ответственность за то, что творилось в эти годы, — я имею в виду не только передел собственности, но и потерю жизни многими людьми. Тогда за режим намертво будет стоять сравнительно небольшое число людей. Поэтому когда мы начинаем здесь себе говорить про некие объективные обстоятельства, ВПК, экспортеров, высокотехнологичные отрасли и так далее, это все немножко схематично, потому что каждый человек, он ведь не только сам по себе, у него есть родственники, друзья, интересы. Скорее, здесь критическую роль будет играть представление о собственном будущем, реальные экономические интересы. Рогов: «Запад просто говорит: Путин — больше не партнер по переговорам. И этот месседж обращен внутрь Европы и Америки — прежде всего, и связан с популярностью путинизма в Европе» Гельман: Мне представляется важным вопрос о качестве разных представителей элит. Возьмите уже упомянутого здесь Сечина. Он представляет определенный тип элиты — не той, что в 1990-е ориентировалась на какие-то рыночные механизмы — ну, хотя бы в понимании, во что имеет смысл вкладываться, потому что там ждет прорыв, а во что — нет. Элита эпохи Путина во главу угла поставила не рынок, не конкуренцию — силовой ресурс. Когда встанет вопрос о том, что рыночные силы должны играть большую роль, а силовой ресурс в связи с кризисом — меньшую, то положение этой элиты очень осложнится. Вторая часть ответа состоит в том, что для авторитарных режимов, чье богатство зависит от ресурсов, кризис цен на эти ресурсы оказывается трагедией — об этом говорят исследования. Потому что изменение доходов от экспорта требует адаптации экономики к новой ситуации. И выбор той или иной стратегии, вот этот вот adjustment (приспособление), он обязательно будет для кого-то болезненным и он вызовет конфликт, потому что издержки будут переложены с одной группы на другую. Собственно говоря, этот конфликт и определит развитие конфликта политического. Переворот, хунта, или... NT: Каковы варианты смены режима? В Бразилии 1940–1970-х годов прошлого века конфликт решался через бесконечные перевороты. В Аргентине это обернулось десятилетним правлением военной хунты и 20 тыс. пропавших навсегда. В Венесуэле власть качалась на ногах двух партий, и это обеспечило какую-никакую стабильность. Как это будет происходить у нас? Электоральная смена режима — возможно ли это в принципе? Внутриэлитный переворот и утверждение у власти хунты в погонах? Или можно рассчитывать на что-то более вегетарианское? Гельман: Когда мы говорим об электоральных механизмах смены авторитарных режимов, здесь есть некое лукавство. Смена через выборы происходит тогда, когда уже сам режим достаточно сильно либерализовался. И скорее всего, такого рода развилку мы уже проехали. Я не вижу у российского режима в ближайшем будущем потенциала для либерализации, если только к этому не призовут какие-то уж очень сильные внутренние обстоятельства, типа массовых протестов, намного более масштабных, чем в 2011–2012 годах. Пока такой перспективы не видно. Другой вариант: какие-то внутриэлитные переговоры, кризисы и смена первого лица в результате дворцового переворота. На самом деле большинство автократов боится этой угрозы намного больше, чем угрозы массовых протестов. Именно поэтому всех привязывают лично к главе государства. Именно поэтому стремятся ни в коем случае не допустить возникновения всяческих организованных альянсов и коалиций, чтобы те не сговорились между собой о свержении главы государства. Я не говорю, что возможность дворцового переворота исключена в принципе. Но на сегодняшний день все основные игроки слишком боятся того, что если, не дай бог, власть сменится, то им может оказаться еще хуже, чем сейчас. Короче, и электоральный вариант смены режима, и дворцовый переворот — по состоянию на февраль 2016 года совершенно исключены. Ходорковский: «Никаких выборов в 2018 году — как механизма смены власти — не будет. Смена власти произойдет революционным путем, то есть с выходом за существующие законы» Ходорковский: Соглашусь с Владимиром (Гельманом). Никаких выборов в 2018 году — как механизма смены власти — не будет. Смена власти произойдет революционным путем, то есть с выходом за существующие законы. А уж будет ли это дворцовая революция или это будет революция более массовая, или это будет революция, которая перерастет в гражданскую войну, это уже в большей степени зависит от нас. И вот на что еще я хотел бы обратить внимание. Когда вы говорите, что, например, Сечин закредитовался, а сейчас кредиты получить не может и ему очень плохо, или Дерипаска закредитовался, сейчас из-за санкций не может перекредитоваться и ему очень плохо… Дерипаска не является по большому счету частью путинской поддержки: он был до, есть при нем и с определенной степенью вероятности смотрит на себя, как на того, кто будет после. Поэтому его особо близко никто и не подпустит к реальным рычагам управления. А вот если взять того же Сечина, то мы видим, что, может быть, ему сейчас плохо, но он-то прекрасно понимает, что при любой смене власти ему-то точно будет хуже. И неважно, кто придет — (мэр Москвы Сергей) Собянин или (генерал-полковник, командующий Воздушно-десантными войсками Владимир) Шаманов. NT: Или глава Ростеха, выпускник Первого главка КГБ СССР (разведка) Сергей Чемезов, о котором в последнее время стали говорить как о возможном преемнике. Ходорковский: Я думаю, что не только Сечин, но и другие фигуры из близкого окружения Путина — Миллер, Ротенберги и т.д. — они прекрасно понимают, что намертво прикручены с точки зрения бизнеса к государственным заказам, а значит, и к своему положению в нынешней иерархии власти. Но насколько для них это существенно по сравнению с возможностью отчалить с частью миллиардов, это зависит от того, насколько очевидной им кажется возможность их личного преследования после Путина. Это вопрос не нашего представления о них, а их представления о себе. На перепутье NT: Вы допускаете возможность добровольного ухода Путина? Ходорковский: Я лично — допускаю. Гельман: Это вопрос оценки рисков. Если речь пойдет о выборе между Гаагским трибуналом и пулей, тогда — да. Есть лидеры, которые ушли не очень по своей воле, получив гарантии того, что они смогут в дальнейшем, уйдя в частную жизнь, спокойно доживать свой век. Будут ли такие гарантии для Путина, для меня большой вопрос. Гельман: «Я не вижу у российского режима в ближайшем будущем потенциала для либерализации, если только к этому не призовут какие-то уж очень сильные внутренние обстоятельства» NT: Следовательно, уже сейчас должны быть сформулированы условия безопасного ухода Путина и его команды? Ведь вы именно это имели в виду, Михаил Борисович, когда в самом начале нашей беседы говорили о «широком канале ухода»? Ходорковский: Угу. NT: А вы не думаете, что Путин не уйдет ровно потому, что видит себя в роли человека, исполняющего некую миссию? Рогов: Путин представляется мне человеком в высшей степени артистичным и прагматичным. Если еще два года назад война на Востоке Украины была представлена как его миссия в борьбе за русский мир, то по событиям последнего года мы видим, как прагматика побеждает идею миссии, и мы видим, как война на Востоке Украины была в месяц свернута и отложена в дальний ящик — после встречи с Керри и неизвестных нам слов, сказанных там. NT: Кто может стать преемником Путина? Возможно ли повторение операции «Преемник»? Есть ли шансы на возвращение в Кремль у Медведева? Почему вы смеетесь, Михаил Борисович? Ходорковский: Я лично представляю себе, что режим дошел до такого уровня маразматичности, при котором возможно все, даже такое. Ходорковский: «В ближайшей перспективе, я имею в виду до 2024 года, уход Путина с точки зрения развала страны никаких особых рисков не несет» Гельман: Часто случается, что процесс передачи власти сопровождается борьбой разных группировок, и какие-то промежуточные лидеры, которые оказываются у руля в момент смены режима, они потом утрачивают власть. Пример фигур промежуточного типа — это Георгий Маленков (ко времени смерти Сталина второй человек в партии и государстве: был отодвинут Хрущевым и закончил свою жизнь директором теплоэлектростанции. — NT) в Советском Союзе и Хуа Гофен (официальный преемник Мао Цзэдуна, был отстранен от власти Дэн Сяопином, выступившим за проведение рыночных реформ. — NT) в Китае. И я подозреваю, что вот те, кого мы имеем в виду сейчас, будь-то Медведев или Собянин, — вообще-то далеко не факт, что они удержатся в руководстве. И наоборот, фигуры, о которых, возможно, сегодня даже никто и не помышляет как о возможных преемниках, могут оказаться бенефициарами коллапса режима. Рогов: «Опыт преемничества был чрезвычайно неудачным. Он показал, что даже если бы в Кремле сидел просто кот — да-да, кот, то элиты потянулись бы к коту за ресурсами» Рогов: Опыт преемничества был чрезвычайно неудачным. Он показал, что даже если бы в Кремле сидел просто кот — да-да, кот, то элиты потянулись бы к коту за ресурсами и вокруг кота возникла бы сильная группировка. Медведев, ничего не делая, создал ситуацию, при которой Путину было трудно вернуться к власти. И в этом смысле я бы не исключил, что начнутся разговоры о конституционной реформе, которая адаптирует нынешнюю конструкцию к хунте, — по модели, скажем, политбюро. Наконец, мы совсем не сказали про региональные элиты, а именно им суждено стать одними из ключевых игроков будущего политического кризиса. Если говорить очень в общем виде, то российские элиты можно структурировать следующим образом: традиционные — это региональные элиты, в прошлые времена их называли хозяйственниками, те, кто сидит на земле, ведет бизнес и контролирует регионы. Вторая группа — это сырьевая олигархия, те, кто связан с экспортом сырья, это федеральная элита. Третья группа — силовая бюрократия, четвертая — гражданская бюрократия. Это самые мощные группы. Безусловно, будущий конфликт будет выглядеть, как атака против сырьевой олигархии, которая сейчас очень тесно инкорпорирована в государство, и против силовой бюрократии со стороны других гражданских элит. Сегодняшняя история с (главой Чеченской Республики Рамзаном) Кадыровым в моем понимании это по-настоящему кризисный кейс. Это пример того, как начинает разбалтываться система. NT: Последний вопрос: в недавней публикации в респектабельном журнале Foreign Affairs утверждается неизбежность распада России после ухода Путина. Как вы оцениваете эти риски? Ходорковский: В ближайшей перспективе, я имею в виду до 2024 года, уход Путина с точки зрения развала страны никаких особых рисков не несет. Для того чтобы создалось некое реальное сепаратистское движение, необходимо все-таки, чтобы в элитах сформировалась концепция отдельного от Москвы государственного субъекта. Такого мы сегодня не видим. Даже на Северном Кавказе, который в этом смысле является особым субъектом, — даже там они себя реально не видят вне России. ОПЫТ Победы без насилия Участник дискуссии Владимир Гельман в своей статье «Как умирают авторитарные режимы» (The New Times № 10 от 19 марта 2012 года) выделяет три возможные модели либерализации жестких политических систем: 1. Пактовое соглашение (Аргентина и Бразилия в начале 1980-х, Испания в середине 1970-х, Польша конца 1980-х). При такой схеме авторитарный режим, столкнувшись с внешними шоками — экономический кризис и проигранная война за Фолкленды в Аргентине, крах плановой системы распределения в Польше, — вынужден был идти на частичную либерализацию. Оппозиция активизировалась (профсоюзы в Аргентине, движение «Солидарность» в Польше). Власть оказалась перед дилеммой — быть свергнутой или искать партнеров по переговорам в оппозиционной среде. Склонные к либерализации части правящих групп заключали с оппозиционерами пакты (в Бразилии, например, с партией «За демократическую Бразилию»). От переговоров отсекались и радикалы, и наиболее консервативные представители правящих элит, в итоге режимы либерализировались. Принципиальное условие для реализации такой модели — наличие сильной организованной оппозиции с массовой поддержкой (в «Солидарности» было 9 млн членов). 2. Либерализация сверху (Южная Корея). Студенческое восстание в городе Кванджу в 1980 году, длившееся десять дней, поддержанное населением — 200 тыс. жителей семисоттысячного города встали на сторону студентов — и жестоко подавленное (погибли, по разным данным, от 200 до 2 тыс. человек), вызвало волну протестов по всей стране. Власти попытались смягчить ситуацию поэтапными реформами, но это не удалось по причине активизации самых разных общественных движений — от профсоюзов, организовавших массовые забастовки, до представителей христианских церквей. В итоге, чтобы избежать революции, власть изменила конституцию и провела демократические выборы, победителем на которых стал кандидат от правящей партии Ро Дэ У, поскольку оппозиция не смогла выдвинуть единого кандидата. Отчасти примером либерализации сверху могут служить и горбачевские реформы в позднем СССР. 3. Электоральная революция (Мексика в конце 1980-х годов). В 1988 году раскол в правящей партии PRI (Институционно-революционная партия) привел к выходу из нее влиятельного политика Куаутемока Карденаса — сына одного из основателей режима. Карденас примкнул к левым, возникла влиятельная партия. Это консолидировало оппозицию под лозунгом противодействия фальсификациям на выборах (до того оппозиционеры активнее боролись друг с другом, чем с правящей партией). Совместная работа привела к созданию Федерального электорального института — фактически независимого центризбиркома — и победам оппозиционеров: сначала на муниципальных выборах, в 1997-м — на парламентских, в 2000-м — на президентских. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
http://www.mk.ru/politics/2016/03/31...ossii2018.html
Письма президенту Вчера в 19:39, просмотров: 43146 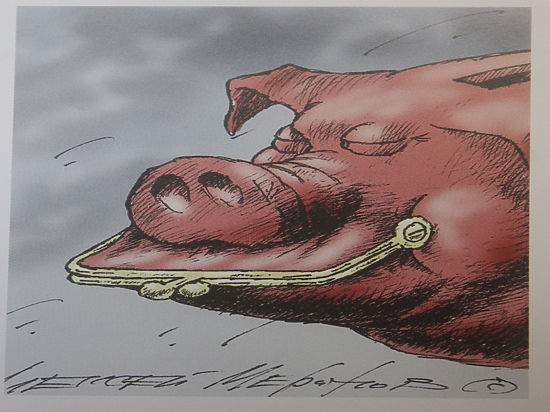 фото: Алексей Меринов Г-н президент, наконец-то нашёлся вам достойный преемник. Это Мединский (который пока всего лишь министр культуры). Многим наивным гражданам казалось, что его вот-вот уволят. Депутаты Петербурга даже обращались к вам, г-н президент, с требованием отправить этого деятеля в отставку. Ведь его зам арестован по обвинению в многомиллионных махинациях. Говорят, Мединский жутко напугался, кинулся к вам (не знаем, был ли допущен к телу), но в Кремле его якобы успокоили: работайте! Когда тебе в Кремле говорят «работайте!» — значит, верят в тебя, значит, всё у тебя будет хорошо. И немедленно — 30 марта — состоялась итоговая коллегия Министерства культуры. Выступали знаменитые люди и говорили о Мединском так, как прежде говорили только о вас: мол, его нам Бог послал. Просто чудо какое-то. Неужели он такой же тефлоновый? Вот некоторые детали этого молебствия. УГОЛЬНИКОВ (кинопродюсер). Владимир Мединский — первый и, наверное, единственный министр культуры России, который приезжает разбивать тарелку на первый съёмочный день картины. Вообще-то, г-н президент, одной этой похвалы достаточно, чтобы Мединский навечно остался в анал…, простите, в анналах русской культуры (двойная буква «н» тут крайне важна). В безумные 1980-е и в лихие 1990-е министр культуры, который ездит бить тарелки, стал бы персонажем эстрадных шутников. Но за годы вашего правления шутники невероятно поумнели. ФОКИН (художественный руководитель Александринского театра). Министерство культуры не должно обращать внимания на различные вбросы. Вся команда должна достойно двигаться дальше, продолжать работать. «Различные вбросы», г-н президент, это лексика вашего пресс-секретаря Пескова. Он на днях заявил, будто некие западные агентства готовят вброс компрометирующей лично вас информации о немыслимых суммах, якобы вам принадлежащих. Но режиссер Фокин говорит про сообщения об аресте замминистра культуры Пирумова и ещё некоторых сотрудников Минкульта. Эти «вбросы» сделали не заграничные враги России, а наши родные следователи и прокуроры. Разница важная. …Прямо по ходу коллегии Министерство культуры рассылало срочные сообщения. Чуть только скажет кто-нибудь что-нибудь приятное, так пресс-служба — бац! — пресс-релиз. Просто шквал экстренных сообщений — так, будто речь о нашей посадке на Луну. А ведь речь-то о посадке в Бутырку. Речь об очередном вороватом чиновнике. И далеко не самом важном из арестантов последнего времени: чай не губернатор. Уже год сидит в СИЗО арестованный директор ФСИН (министр всех тюрем и зон) Реймер. Сбежала от следствия министр сельского хозяйства Скрынник, прячется за границей, а если бы её вовремя арестовали… Одно из экстренных сообщений Минкульта такое откровенное, что мы цитируем его полностью. Называется так: Члены коллегии и деятели культуры будут единодушно ходатайствовать об изменении меры пресечения Заголовок отдаёт лёгким безумием. Откуда эти члены знают, что все деятели русской культуры будут что-то там такое «единодушно»? Чуть позже мы, г-н президент, докажем, что это абсолютно не так. А теперь — текст пресс-релиза: «Те, кто подозревается в экономических преступлениях, не должны находиться в СИЗО. СИЗО это очень тяжелое место. Мне кажется, что мы должны какое-то принять обращение, чтобы эти люди, вина которых ещё не доказана, до суда находились под домашним арестом», — сказал зав. отделом культуры «Независимой газеты», руководитель рабочей группы по театральному делу Общественного совета Министерства культуры РФ Григорий Заславский. Его поддержали и другие члены коллегии Министерства культуры РФ. «Как бывший министр юстиции и внутренних дел я поддерживаю эту инициативу», — сказал Сергей Степашин. В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ведомство в соответствии с законом «тактично» оформит это предложение и направит в соответствующие органы».  фото: Кирилл Искольдский Вроде бы всё культурно, но… «Руководитель рабочей группы по театральному делу» путает бизнесменов, обвиняемых в экономических преступлениях, с чиновниками, обвиняемыми во взятках, мошенничестве и пр. Это не экономические, а должностные преступления, заурядная уголовщина. Но путаница простительная и понятная: так уж срослись чиновники с бизнесом, что чёрт их разберёт. Что касается слов Степашина, то он мог бы высказаться ещё и как бывший премьер-министр России, бывший председатель Счетной палаты, бывший директор ФСБ. Но мы не помним: просил ли он выпустить арестованных напрасно, пока занимал все эти должности. Десятки тысяч людей (а то и больше) сидят за экономические преступления. Но Министерство культуры и деятели культуры высказались против такого беззакония впервые. И — по ошибке. А уж как Мединский «тактично» оформит защиту своего арестованного зама — увидим, интересно будет почитать. Ещё одно выступление не можем обойти в этом отчёте. Известный кинорежиссёр сказал: «Необходимо отметить и принципиально «прорывные» достижения сегодняшнего Министерства культуры. Это то, чего не было ни в советское время, ни в российское. Одним из таких ключевых достижений является бесплатное посещение музеев России детьми и молодёжью до 18 лет. Это большое достижение министерства и лично Владимира Ростиславовича Мединского. Я поздравляю руководство министерства и убеждён, что уже этой инициативы и этого проекта 2015 года достаточно, чтобы признать работу Министерства культуры Российской Федерации эффективной». Г-н президент, безусловно, хорошо, что дети будут ходить в музеи бесплатно. Но почему-то не хочется за это благодарить лично Владимира Ростиславовича. И картины не он нарисовал, и музеи не он построил, и дети не его, и деньги не из его кармана. Это наши музеи, наши дети, деньги из нашего бюджета. Вот если бы все руководители Министерства культуры, включая министра, отказались бы от зарплаты, тогда… Нет, и тогда мы бы не стали их благодарить, потому что есть какое-то бездоказательное ощущение, что они живут не на зарплату. Почему их иногда и арестовывают. * * * За что увольнять министра (необязательно культуры)? За невежество? За коррупцию? За глупости? Все эти обвинения спорны. Говорят: плохой историк. Но ведь кому-то он кажется хорошим. Плохой писатель? Но только что главред «Литературной газеты» переделал роман министра в пьесу, а пьесу тут же принял к постановке МХАТ. Такой высокий уровень соучастников культурного взаимопроникновения заставляет гадать: ждёт нас шедевр или позор, но молчать о конфликте интересов мы не обязаны (ведь от министра зависит, какой театр и сколько денег получит). Итак: за что уволить? Но ведь этого требуют какие-то недовольные. Возможно, лично обиженные. Спросим иначе. Г-н президент, за что вы назначили нашей великой стране, нашей высокой культуре такого министра? За какие заслуги? За какие заслуги беглая Скрынник стала министром сельского хозяйства? За какие заслуги скандально уволенный Сердюков был сделан министром обороны? За какие заслуги беглого депутата Митрофанова, обвиняемого в мошенничестве, сделали председателем Комитета Госдумы по информационной политике (то есть по прессе)? Помните ли, г-н президент, что много лет председателем Государственной думы России был Грызлов? А за какие заслуги? Был невероятно важным господином, произносил какие-то речи о нравственности, а вот исчез — как не бывало. Одновременно исчезли волшебные фильтры, которые он изобрёл в соавторстве с неким шарлатаном, исчезла и государственная программа «Чистая вода» ценою в 15 000 000 000 000 (15 триллионов!) рублей, тех рублей, которые стоили 30 за доллар. Увольнение Мединского, конечно, не принесёт такой экономии. Но важен принцип. * * * Теперь о единодушии деятелей культуры. За Министерство культуры (читай: за министра) вступился Общественный совет Министерства культуры. Известные люди: дрессировщик Запашный, фокусник Кио, М.Ю.Лермонтов (вероятно, поэт). Но Общественный совет министерства — это три десятка людей. А деятелей культуры в тысячи раз больше. Далеко не все они так почтительно относятся к министру и министерству. Слушателям радиостанции «Говорит Москва» в прямом эфире был задан вопрос (извините, цитируем, как прозвучало): «Вы разделяете мнение, что Мединского надо гнать в шею?». Голоса сотен слушателей разделились так: «да» — 85%, «нет» — 15%. А ведь это не какое-нибудь оппозиционное радио. Наоборот — даже очень патриотическое. Слушатели — люди бесстрашные, потому что анонимные. Они говорят, что думают, и голосуют по совести, а не из какой-либо выгоды. А вот деятелям культуры ссориться с министром очень невыгодно, очень рискованно. Тем не менее таких людей много. Вот что говорили по радио в прямом эфире кинорежиссёры Виталий Манский (президент фестиваля «Артдокфест») и Андрей Смирнов («Белорусский вокзал» и др.): МАНСКИЙ. Эшелоны денег Министерство культуры отправляет в топку бездарности… Ну что такое Мединский? Это просто какая-то щепка на пути развития нашей цивилизации… СМИРНОВ. Сегодня в культуре хозяйничает Никита Михалков руками министра Мединского… Но российская культура там, где мы, а не там, где сегодня находится Министерство культуры. Российская культура — там, где мы, а не те, кто проповедует холуйский патриотизм, а под его маской — самый грубый национализм и ксенофобию…  фото: Лилия Шарловская Девять нулей — это сколько в долларах? «Эшелоны денег — в топку бездарности»? Они там, что ли, сгорают без следа? Вполне вероятно, часть этих эшелонов отправляется в другое место, да и следы остаются. Вся страна видела по телевизору, как вы спрашиваете у Мединского, где деньги, выделенные на культуру, а он пытается ответить, куда они ушли и почему не дошли. Этот ваш диалог, выражение ваших лиц, холодный взгляд одного и бегающие глаза другого — всё это шедевр документалистики. …Г-н президент, ваш министр культуры Мединский не только первый и единственный, который приезжает разбивать тарелку, когда запускается угодный ему фильм. Он первый и единственный (и надеемся: первый и последний), кто обвинил во лжи фронтовика, защитника Ленинграда, писателя Даниила Гранина. Обвинил публично. А потом, вместо извинений, подал в суд на тех, кто об этом написал. И проиграл, несмотря на то, что он ваш министр. Мы пишем «ваш министр», потому что назвать его министром русской культуры у нас язык не поворачивается. Даже если он, такой угодный вам, станет президентом России — исторически он уже проиграл всё и навсегда. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
http://newsland.com/user/4297789135/...putina/5187757
20:47 Вчера в рубрике Политика  Немецкий еженедельник Der Freitag назвал наиболее вероятного кандидата на пост президента России. И это не премьер-министр Дмитрий Медведев, как можно было бы предположить. Издание считает, что на выборах в 2018 г. победит Сергей Шойгу, в настоящее время — министр обороны РФ. Свою версию Der Freitag подкрепляет следующими фактами. Уже в течение 20 лет Шойгу занимает руководящие должности. В 1994 г. он стал главой МЧС России и оставался на этом посту до 2012 г. Затем Шойгу стал губернатором Московской области, а всего через 6 месяцев — министром обороны. С приходом Шойгу ускорилась модернизация Вооруженных сил России. Политику также удалось завладеть Крымом без вооруженных столкновений с Украиной и НАТО. В настоящее время Шойгу руководит военными операциями в Сирии, нанося удары по позициям боевиков «Исламского государства», запрещенного в России. И наконец, Сергей Кужугетович находится в хороших отношениях с Путиным — они не раз отдыхали вместе. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
http://echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1771896-echo/
Допустим, Путина украли марсиане — как бы стали выбирать преемника? Попробуем провести параллели с тем, как в России это делали раньше. После смерти Сталина и после ухода Брежнева схема всегда была одна: возникает краткий промежуток смены малозаметных правителей, а потом на его место избирают кажущегося самым молодым и несерьезным кандидата — такого шута. Вот вам Хрущев и Горбачев. Поэтому мой прогноз на «послепутина» — Дмитрий Анатольевич Медведев. |
 |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|